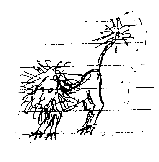Время подводить итоги. Во всех смыслах, по всем линиям, в том числе - заканчивать с розысками (разысканьями? или, может быть, попросту с копаниями?) в русско-еврейской литературе. Когда-то, четверть века назад, в начале копаний, представлялось: вот напишу полную историю этой родной литературы или, на худой конец, очерки ее истории. Не сбылось, не вышло. Но два очерка написаны и напечатаны - о Рабиновиче (Осипе) и Леванде, об истоках, об отцах-основателях. Для скромного эпилога что может быть логичнее, чем подойти вплотную к третьему и, видимо, последнему истоку - к Григорию Богрову? Оказывается: логично-то оно, может, и логично, и все же не так просто. Во-первых, я не люблю Григория Богрова. Хочу сразу оговориться: по-моему, он гораздо слабее писательски, художнически двух других со-основателей, хотя и Леванда с Рабиновичем - не самого первого класса изящная словесность. А я, сколько помню, никогда в жизни не писал об авторе, который не внушал бы мне либо симпатии, либо прямой антипатии. В общих обзорах - случалось, но в монографических статьях - вроде бы, никогда. Так стоит ли ломать традицию на старости лет, под занавес? А уж ежели ломать (так думалось), то компенсировать одно новшество другим, бесспорно достойным всяческого уважения. Опять-таки почти никогда не сиживал я в архивах и уж положительно никогда не выуживал из них по крохам факты житейской и (или) творческой биографии своих 'подопечных'. Как хорошо было бы поискать следов Богрова по архивам, ведь белыми пятнами буквально пестрят все шестьдесят лет его жизни! Но чужими руками архивные документы не поворошишь, а до бывшего Советского Союза, включая и Россию, и Украину, и Беларусь, далеко, и - главное - угрюмое нежелание встречаться с нелюбезным отечеством сильнее легкомысленного желания проставить в примечаниях вожделенные слова 'единица хранения'. Это во-вторых. И тем не менее я принимаюсь за описание жизни и трудов, - главным образом трудов, - Григория Исааковича Богрова. Тут опять-таки, по меньшей мере, две важные для меня причины. Стараясь не уподобляться лисице из басни об этом хитроумном животном и винограде, выскажу еще раз всегдашнее свое убеждение: подлинная биография писателя - в том, что он написал для публики и опубликовал или намеревался опубликовать; есть, разумеется, исключения, но они, на мой взгляд, подобны любому другому исключению - служат для подтверждения правила. Вышедшее из архива способно уточнить, углубить или, в иных случаях, учинить скандал местного значения, но оно не в силах изменить, и тем более изменить кардинально, наше понимание и толкование, вытекающие из владения некоей 'массою' текстов. Дневники и письма, черновики и рабочие тетради, записные книжки и корректурные листы, платежные ведомости, метрические свидетельства, полицейские донесения и т. д. и т. п. могут быть захватывающе интересны и поучительны, но и за всем тем они призваны дополнить главное, и, не будь этого главного, ни интереса, ни поучительности не было бы. В самом деле, чего бы стоили черновые записи Достоевского к 'Житию великого грешника', если бы не 'великая пятерка', от 'Преступления и наказания' до 'Карамазовых'? Разумеется, Богров - не Достоевский, но Достоевский, весь Достоевский, всё его наследие, и печатное, и рукописное, стало предметом пристальнейшего внимания и обожания повсюду в мире, тогда как о Богрове нет, по сути дела, ничего; не было попытки даже вглядеться как в нечто целое в то немногое, что появилось посмертно в семи скромных по объему томах собрания сочинений, иными словами - в то, что не требует никаких розысков, даже старые журналы перелистывать не надо. Стало быть, главная, доархивная часть работы еще не выполнена, почему бы мне не взять ее на себя, как в случае с Осипом Рабиновичем и Левандой? Да потому, может возразить любой, что, по твоей собственной оценке, Богров - не только не Достоевский, но даже и не Рабинович с Левандой! Стоит ли вообще им заниматься? Мало ли забытых наглухо или упоминаемых лишь походя имен таится в старых книгах и периодике? Чтобы ответить на этот законный вопрос, историк литературы, т. е., прежде всего, особо квалифицированный ее потребитель, особого уровня читатель, должен уступить место историку более широкого диапазона, который без труда выяснит, что посредственный писатель Богров сыграл первостатейной важности роль в становлении русско-еврейской журналистики в Петербурге в конце 70-х - начале 80-х годов XIX столетия. Недаром молодому Фругу, тогдашнему провинциалу и новичку в столице, он казался литературным 'генералом'. А за десять лет до того, в начале 70-х, Некрасов напечатал у себя в 'Отечественных записках' исполинский, около тысячи страниц, автобиографический роман Богрова 'Записки еврея', который довольно долго служил русской читающей публике, русскому образованному обществу чуть ли не единственным источником сведений о еврейской цивилизации в черте оседлости. В какой мере сведения эти были точны и надежны, мы увидим ниже, но значения самого по себе факта для истории русско-еврейских отношений отрицать невозможно. Уже и сказанного выше было бы достаточно, чтобы оправдать интерес к Богрову и усилия привести в порядок наши представления о его взглядах и убеждениях, равно как и о месте его в движении русско-еврейских общественных настроений. Но есть еще одно соображение, возможно, еще более убедительное. Богров принадлежит к первому поколению еврейских 'просветителей' (маскилим) в России, освоивших русский язык. В ряду литераторов и общественных деятелей этого поколения он занимает позицию крайнего ассимиляторства, вплоть до полного разрыва с еврейской бытовой и религиозной традицией. Этому радикальному ассимиляторству предстояло сыграть весьма важную роль в общественных и личных настроениях российской интеллигенции еврейского происхождения уже в девятнадцатом веке и, пожалуй, еще более важную в завершающемся ныне двадцатом. Забытый Григорий Богров оказывается, как ни странно это может прозвучать, в начале 'родословной' и русских революционеров типа народника Натансона, или эсера Гершуни, или эсдека Троцкого, и русских поэтов вроде Мандельштама и Пастернака. (Не говоря уже о целом легионе евреев-большевиков и другом легионе - советских литераторов-евреев.) Едва ли есть хоть какая-то нужда доказывать, насколько важно (и интересно!) добраться до истоков, или хотя бы до одного из истоков, этой 'родословной'. Таковы мотивы моего обращения к Богрову. Хочу надеяться, что в их убедительности не усомнится и будущий читатель. Полно, одергивает меня Дух Сомнения, будет ли он у тебя, этот читатель? Будет, непременно будет! - ободряет Дух Надежды, Дух Упования, так же ненавистный жидомору в еврее, как Дух Сомнения. Тем хуже для жидомора. КАНВА С ПРОРЕХАМИПрорехи на биографической канве Григория Богрова столь многочисленны и внушительны, что временами приходит искушение вообще пренебречь связным жизнеописанием и прямо взяться за главное - за прозу и публицистику, за идеологический посыл и уровень письма.Но - нельзя. И не только потому, что традиция не велит, но и по абсолютной необходимости хоть как-то опереться на житейские события, соотнести жизненный опыт с писательским. Сопоставление печатных источников очень быстро убеждает, что все они так или иначе связаны с короткой биобиблиографической заметкой в знаменитом справочнике Венгерова, составленной сыном писателя; она же перепечатана в почти неизмененном виде в уже упоминавшемся выше собрании сочинений. И хотя озаглавлена она там 'Биографический очерк', весь 'очерк' уместился на трех страничках. Мы узнаём, что Григорий Исаакович Богров родился в Полтаве 1 марта 1825 года (по старому стилю, по новому выходит 12 того же марта). Семья была бедная, но в высокой мере благочестивая. Богров получил традиционное религиозное воспитание: 'дошел до большого совершенства в знании древнееврейского языка, Талмуда и других религиозных сочинений'. Русской грамотой он овладел самоучкой - тайком от родителей и против их воли. В семнадцать лет родители женили его. 'После женитьбы он устроился отдельно от родителей и получил возможность ничем и никем не стесняемый изучить русский, немецкий и французский языки, равно музыку (прекрасно играл на скрипке). В семейной жизни был несчастлив и впоследствии разошелся с женой'. Следуют десять строк об истории появления 'Записок еврея' и перечень заглавий всего (по сведениям автора или редактора заметки) остального, напечатанного Богровым. И в заключение: 'Умер Г. И. Богров 28 апреля (т. е. по новому стилю 10 мая) 1885 г. в с. Деревках Минской губернии (за несколько лет до смерти Г. И. принял православие и женился на г-же Козополянской)'. Вот и все. Да еще надо добавить, что из трех страничек 'очерка' одна отдана целиком отцу писателя - прославлению его набожности и учености. Прорехи начинаются с самого начала. Как звали нашего Богрова? Это я не о фамилии, которая в гебраизированной форме была, видимо, Бехарав, - это я об имени. Немыслимо, чтобы в традиционной еврейской семье ребенок получил при обрезании нееврейское имя! Разумнее всего предположить, что моэль (совершающий обрезание) нарек его либо 'Гершон', либо 'Цви-Хирш', из чего, по фонетическому сходству, получился 'Гриша', 'Григорий'. Да вот только автобиографический герой-рассказчик 'Записок еврея' - тоже Гриша, но так его прозвали приятели-русские, а изначально и для всех прочих он был Сруль, т. е. Израиль. Не был ли изначально Израилем (в ашкеназском, т. е. в центрально- и восточноевропейском, еврейском выговоре Исруэлем, Исроэлем) и наш Григорий Исаакович? (Кстати сказать, вопрос об имени тут же приводит на память статью первооснователя русско-еврейской словесности Осипа Рабиновича 'О Мошках и Иоськах' - я подробно разбирал ее в свое время. Разница в позициях бросается в глаза. Рабинович желает избавить евреев от безобразных для российского уха деформаций еврейских имен, но сами имена в их правильном библейском или общепринятом по-русски обличии желает сохранить: Моше или Моисей - но не Мошко. Альтер эго Богрова и сам автор вместе с ним радуются избавлению от еврейского имени, счастливы обрусеть полностью хотя бы ономастически.) Чем занимался молодожен, когда 'устроился отдельно', чем кормился? На этот деликатный вопрос ответ дают 'Записки еврея'. Во всяком случае, лучшее, что было написано о Богрове, полтора столбца Сергея (Исраэля) Цинберга в дореволюционной 'Еврейской энциклопедии' по-русски, суммируют в одной скупой фразе сведения, почерпнутые оттуда: 'Продолжительная служба по откупу дала Богрову богатый запас наблюдений'. Но где он служил? с кем? какого рода наблюдения накапливал? накопил ли что-либо еще, помимо наблюдений? Молчок! Разбираясь с 'Записками еврея', я, в свою очередь, попробую извлечь оттуда сведения, проливающие какой-то свет на биографию автора. Не подлежит сомнению, что в семидесятые годы Богров жил в столице, хотя 'очерк' об этом умалчивает. Не подлежит сомнению, прежде всего, потому, что он принимал активное участие в русско-еврейских еженедельниках 'Русский еврей' и 'Рассвет' с самого их основания (1879), а отчасти и руководил ими. Но наверняка он поселился в Петербурге намного раньше (см. ниже, о письмах Богрова), может быть - еще в первой половине семидесятых, после публикации 'Записок еврея'. Стоп! В каком качестве мог он получить право жительства вне черты еврейской оседлости? Литераторы в число избранных счастливцев не входили. Адольф Ландау, крупнейший русско-еврейский издатель последней четверти века и авторитетный публицист, получил столичную прописку как наборщик в своей же типографии. Поэт Фруг, упоминавшийся во вступлении, был зарегистрирован полицией как лакей присяжного поверенного Марка Варшавского, а тот был не только поклонником таланта Фруга, но и сыном богача, купца первой гильдии, т. е. имел все законные основания держать при себе 'домашних служителей' из числа единоплеменников и единоверцев┘ Очень много спустя, через тридцать лет после смерти Богрова и за год до собственной смерти, Фруг вспоминал, как они с Варшавским ходили на поклон к Богрову, который служил у известного банкира Абрама Зака. Нашему поневоле краткому и фрагментарному жизнеописанию Григория Богрова не повредит, если я приведу это воспоминание целиком. А скорее - послужит к украшению. 'Богрова мы застали в большом и светлом кабинете окнами на Невский. Из-за письменного стола поднялся господин, которому на первый взгляд можно было дать никак не более 38 - 40 лет (а было тогда Богрову под шестьдесят). Хорошего роста, осанистый, благообразный, он производил какое-то странное впечатление: не стройность, а прямизна, жесткая, напряженная; и черные, круглые баки слишком черны, и зубы слишком белы и крепки; и этот ровный и густой загар с легким, слишком 'молодым' румянцем, и выпуклая манишка на выпуклой, по-видимому, груди - все это казалось непрочным, случайным, досадливо ненужным┘ Чем состоял Богров в банке - не могу сказать, но оклад, мне говорили, он получал весьма изрядный. Сидел он в этом комфортабельном кабинете и писал свой роман 'Накипь века', в котором он пытался изобразить жизнь 'молодого поколения'. И творил он эту жизнь по методу кустарей ┘: и глаза, и уши, и языки, и принципы - всё отдельно, всё поштучно, пристрастно и фальшиво, как и все тенденциозное в любой сфере творчества. Замыслил Варшавский пристроить меня как-нибудь на службу в этом банке. Дело зависело в значительной степени от содействия Богрова. Богров обещал подумать и затем сообщил Варшавскому такой ответ: 'Назначить ему (т. е. мне) приличное жалованье нет оснований, принять в число мелких служащих неудобно. А потому┘' Если наше недоумение и осталось неразрешенным (Фруг, даром что младший современник Богрова, понятия не имеет о его функциях - обязанностях и полномочиях - в Учетном банке Абрама Зака), мы получили живой облик - и человека, и писателя. Облик, скажем прямо, не слишком привлекательный. В какой степени верен этот явно недоброжелательный словесный портрет, походя набросанный постаревшим и смертельно больным Фругом, судить нелегко, ясно только, что автор его пристрастен и добрых чувств к изображаемому не питает. Тем любопытнее сравнить его с другим наброском, сделанным также по памяти всего шестью или семью годами позже; сделан он прославленным историографом Шимоном (Семеном) Дубновым в его автобиографии. 'Когда однажды Ландау сказал мне, что Григорий Исаакович Богров прочел мои статьи о Саббатае Цеви и приглашает меня к себе на беседу, я очень обрадовался. Ведь 'Записки еврея', читанные мною в ранней юности, когда они печатались еще в 'Отечественных записках', были в числе первых книг, толкнувших меня на бунт против старого режима в еврействе. В одно декабрьское утро 1882 г. я поднялся по широкой лестнице дома Учетного банка на Невском проспекте, где Богров занимал какую-то синекуру по милости своего друга Абрама Зака, директора банка. В отдаленной комнате верхнего этажа встретил меня высокий бритый господин с черными волосами на голове, не гармонировавшими с его старческим лицом и дрожащими пальцами (после мне сказали, что ему было тогда больше семидесяти лет и он красил волосы, чтобы казаться моложавым рядом с своей молодой женой, русской дамой). Из разговора выяснилась цель приглашения меня со стороны Богрова. Он хотел посоветоваться со мною как автором очерка о Саббатае Цеви, как использовать один эпизод из жизни лжемессии для исторической повести 'Еврейский манускрипт', первую часть которой он уже напечатал. В первой части Богров изобразил начало украинского восстания 1648 г., а в готовящейся второй части хотел выдвинуть как героиню жену Саббатая Цеви, которая в детстве была похищена восставшими казаками. Он советовался со мною об исторической связи между обоими движениями. Я ему объяснил, что такая связь несомненно существует, что резня 1648-го и следующих годов сыграла роль 'предмессианских мук' для пришествия 'мессии' в 1666 г. Он явно обрадовался этому одобрению его плана, но ему уже не удалось написать вторую часть'. И Фруг, и Дубнов пишут об одном и том же Богрове - начала 80-х годов, и, не считая неточностей у Дубнова (Богров умер, едва переступив шестидесятилетний рубеж и, видимо, до конца дней носил, по тогдашней моде, бакенбарды), оба портрета, вроде бы, сходятся, но, если всмотреться чуть пристальнее, они - как лицо и изнанка: диаметрально противостоят друг другу эмоционально. Фруг - весь насмешка и даже сарказм, Дубнов сочувствует молодящейся старости. Фруг перечеркивает писательские усилия Богрова, Дубнов причисляет себя к благодарным читателям. Богров у Фруга - надменный 'барин', литературный генерал, у Дубнова - скромно ищущий совета и с радостью к этому совету прислушивающийся. Как видно, Богров умел внушать случайным знакомым противоположные чувства. Что же касается близких друзей, то их свидетельства до нас не дошли. Как, впрочем, и самые имена их. Оттого особенно ценны отрывочные воспоминания Дубнова. Приведу еще одно, относящееся к 1884 году; Дубнов собирается покинуть Петербург. 'Тяжелое впечатление произвело на меня прощание с Богровым. Он тогда печатал в 'Восходе' свою странную повесть 'Маниак', направленную против палестинофилов. И в этой работе, и в самом авторе чувствовался уже старческий маразм. Он затронул в беседе со мною вопрос о жизни вольнодумца среди евреев провинциального города. 'Ведь если бы я там умер, - говорил он с горечью, - они бы меня не хоронили на своем кладбище, а закопали бы где-нибудь возле забора, как грешника'. Увы, ему не суждено было умереть среди евреев и даже умереть евреем. Через год дошел до меня слух о смерти Богрова в деревне, где он жил в усадьбе своей русской жены. Говорили, что незадолго до смерти он принял крещение, чтобы избавиться от неприятностей со стороны полиции, которая стесняла его в праве жительства (в силу 'Временных правил' еврей не имел права вновь поселиться в деревне). Психическим толчком к этому шагу несомненно послужило то, что он чувствовал себя отверженным от своего народа, между тем как единственным близким ему человеком была русская женщина'. 'Очерк' упоминание о крещении, имеющееся у Венгерова, пропускает, но, напомним, сообщает о женитьбе 'на г-же Козополянской за несколько лет до смерти'. Однако брак с христианкой был для исповедующего любую другую религию, по закону, невозможен, непременным предварительным условием было крещение. Ближе всех к истине, по всей видимости, упомянутый несколько выше Сергей Цинберг: 'За несколько месяцев до смерти Богров, по семейным обстоятельствам, принял крещение'. Отчасти загадочное 'по семейным обстоятельствам' должно обозначать узаконение супружеских de facto отношений с госпожой Козополянской. Насколько долгими были эти отношения и остались ли от этого брака дети, обнаружат будущие исследователи. Пока ограничимся лишь следующей информацией: самый знаменитый (увы!) носитель фамилии 'Богров', Дмитрий, террорист, смертельно ранивший российского премьер-министра Столыпина в 1911 году, был внуком 'нашего' Богрова от сына в первом, несчастливом браке - поскольку вероисповедания был иудейского. (Замечу кстати, что уморительно-издевательское имя 'Мордко', под которым он фигурировал в обвинительном акте, ему придумало и налепило следствие - из соображений откровенно юдофобских; к сожалению, Солженицын в своей, так сказать, саге о Богрове ('Август Четырнадцатого', вторая редакция) клюнул на полицейскую приманку.) Мне кажется, что еще большего внимания, чем позднее и вынужденное обстоятельствами крещение, заслуживает с уверенностью свидетельствуемое Дубновым 'отвержение от своего народа', т. е. не конфессиональный и правовой разрыв, а утрата чувства принадлежности, единства, тоже никак 'Очерком' не упомянутая, но отмеченная и подчеркнутая все в той же энциклопедической заметке Цинберга. Вершиной расхождения с единомышленниками-маскилим 'по национальному вопросу' Цинберг полагает скандал в редакции 'Рассвета' в связи с поддержкой Богровым идей и целей Якова Гордина, преподавателя еврейского казенного училища в Елисаветграде. Гордин основал там Духовно-библейское братство - секту, отрицавшую и осуждавшую весь постбиблейский иудаизм скопом, а также весь еврейский образ жизни и все традиционные еврейские занятия - коммерцию, банковское дело, посредничество и т.д., - как, якобы, оправданно провоцирующие антисемитизм. Реакция 'Рассвета' была незамедлительной и единодушной, что более чем понятно на фоне погромной стихии 1881-1882 годов; оставшийся в полной изоляции Богров был вынужден выйти из редакции еженедельника. Впрочем, в своем печатном отказе от дальнейшего участия в редактировании 'Рассвета', опубликованном другим русско-еврейским еженедельником, 'Недельной хроникой Восхода', сам Богров приводил совсем иную причину - разногласие в вопросе об эмиграции: после начала Великих погромов 1881-1882 годов 'Рассвет' занял решительную проэмиграционную и пропалестинофильскую позицию, Богров же считал такую позицию авантюризмом. Надо ли говорить, какой интерес, какую важность для биографа Богрова представляют его письма? Из переписки его, сколько мне известно, в печать вышли три блока - три письма к Н. А. Некрасову (февраль 1871 - июль 1875), все насчет публикации 'Записок еврея'; девять писем к Л. О. Леванде (июль 1875 - ноябрь 1878), главным образом в связи с попыткой публикации романа Леванды 'Поход в Колхиду' ('Исповедь дельца'); и восемнадцать писем к судебному деятелю Я. Л. Тейтелю (ноябрь 1875 - февраль/март 1884), тема, их объединяющая, верно определена архивистом, описывавшим их, - 'Об отношении литератора Григория Богрова к еврейской нации'. Отношение это, по оценке самой благожелательной и даже снисходительной, мягче, нежели противоречивым, не назовешь. Вот несколько примеров. '┘Никто из евреев теплее меня не относится к своей многострадальной нации, хотя, быть может, никто глубже меня не презирает ее идиотски подлое духовенство, с его бессмысленною, теологической курьезною схоластикой, никто более меня не ненавидит наших квази-представителей, вынырнувших из сивушной бочки'. '┘Еврейская культурная молодежь настоящего времени вообще, а еврейские барышни-стрижки в особенности, внушают мне чувство, граничащее с омерзением. Эта несчастная молодежь, презирающая свою несчастную нацию, так подло-комично наряжающаяся в русско-народную поддевку, так подло лакейничающая своей патриотически русской ролью, до того ненавистна мне, что рука не дрогнула бы у меня надавать ей целую сотню оплеух, как низкому пресмыкающемуся подлецу'. '┘как ни горько, а признаться приходится, еврейство бесчувственнее всякого скота'. '┘наше еврейство настоящих дней (я разумею денежную аристократию и молодых сморкатых интеллигентов) такая непроходимая дрянь, что не доведи Бог. ┘Рубль серебра - вот Бог Израиля на Руси'. (Как моему поколению советских-российских евреев, прошедшему советскую высшую школу с ее принудительным марксизмом, не вспомнить постыдно-бесстыдный 'афоризм' из статьи молодого Маркса 'К еврейскому вопросу': 'Кто светский бог еврея? Деньги┘' А ведь Богров ненавидел социализм, и следы этой ненависти отчетливо видны в переписке с Тейтелем. Впрочем, тут не более чем совпадение, хотя и многозначительное, как мне представляется; о заимствовании не может быть и речи.) Переписка с Тейтелем дает terminus post quem для водворения Богрова в столице (все письма - из Санкт-Петербурга); дата подтверждается и письмами к Леванде. Любопытна деталь в письме к Тейтелю ? 10.30 (от 27 февраля 1884 года): Богров сообщает, что его приглашал к себе граф Пален и беседовал с ним долго и доверительно. Граф Пален возглавлял Высшую комиссию для пересмотра законов о евреях, образованную после (и в результате) Великих погромов 1881-1882 годов. По-видимому, с мнением Богрова как эксперта по еврейским делам в русском обществе и, в частности, в кругу высшей администрации продолжали считаться и через десять и более лет после появления 'Записок еврея'. В целом, однако же, корреспонденция Богрова больше говорит о его характере и настроениях, нежели о событиях его жизни. О характере вспыльчивом, желчном, нетерпимом, самолюбивом, и можно бы прибавить еще немало отрицательных черт и черточек, но не следует забывать и какой-то особой, неординарной жажды справедливости, обнаруживающей себя от случая к случаю. Позволю себе привести целиком, без сокращений большой отрывок из письма к Леванде от 14 (26) августа 1878 года. 'Я в братском письме к Вам пригласил Вас идти со мною рука об руку. Вы ответили в таком тоне, который меня оттолкнул от Вас. Под влиянием ли наплыва какой-то мизантропии или же озлобления и раздражения Вы сказали, что не желаете бороться за 'стадо баранов'. Сознаюсь, Ваше письмо показало мне Вас в невыгодном свете. Вы, положим, озлоблены на наших 'евреев-мешков' и бьете не по коню, а по оглобле! Чем виновата масса, еврейская масса, утопающая в нищете, в неведении, в невежестве, привитых к ней плачевной историей, подлой еврейской иезуитской кастой, индифферентизмом наших образованных евреев и гнусным себялюбием наших баронов, статских и коммерческих советников и прочих еврейских кабатчиков во фраках? Какая разница будет между лучшими людьми нашей нации в России (а я Вас всегда причислял к ним) и между Фаддеями Булгариными и Сувориными, этими Гаманами 'нового времени', делающими ответственным целый придавленный народ за подлости еврейских единиц? Что общего между воителями-подрядчиками на Дунае и миллионным контингентом людей, стонущим в тисках законодательной неправды и злоупотребления силы? Вы, труженик пера, бичуйте родных негодяев, не увлекайтесь вредными панегириками, держитесь правды, одной голой правды - и Вы уже принесете частицу пользы страдающим людям, вполне 'невменяемым'. Губить, истреблять следует хищных зверей, а 'баранов' за что же наказывать? Нет, Лев Осипович, возьмите назад свое нехорошее слово о родных угнетенных братьях или не претендуйте за несочувствие, за волчью жизнь вразброд. Как аукнется, так и откликнется. Ну, теперь мне легче на душе, я высказался. Пожалуйста, не принимайте меня за фанатика, за глупого патриота. Я в обширном смысле слова эманципированный космополит. Если бы евреи в России не подвергались таким гонениям и систематическому преследованию, я бы, быть может, переправился на другой берег, где мне улыбаются другие симпатии, другие идеалы. Но мои братья по нации, вообще четыре миллиона людей, страдают безвинно, ужели порядочный человек может махнуть рукою на такую неправду?' Чувства и настроения безупречно благородные! Ровно век спустя, в семидесятые годы ХХ столетия, их будет высказывать почти теми же словами не столь уж малое число стопроцентно обрусевших интеллигентов еврейского происхождения, и мы еще непременно к этому вернемся. Но пока должен напомнить: главный предмет нашего интереса - все-таки не человек, не личность с ее мимолетными настроениями, которыми она делится с друзьями и приятелями, но литератор; литератор же целью себе ставит донести до читателя посыл сочиненного им, идейный и/или эстетический. А если так, то укоры Богрова Леванде скорее можно применить к самому Богрову, который слишком часто бывал нетерпим ко всему еврейству, ко всему еврейскому, не разбирая 'меньшей братии' от 'большей'. Приступим же к этому предмету, представляющемуся нам главным. УЗОРЫ НА КАНВЕ'Записки еврея'Не мудрствуя лукаво, процитирую Цинберга: 'В начале шестидесятых годов (около 1863-го) Богров написал первую часть 'Записок еврея', носящих автобиографический характер и описывающих быт русского еврейства тридцатых и сороковых годов ХIХ века. После долгих скитаний по петербургским редакциям рукопись попала в 'Отечественные записки', где очень понравилась Некрасову. Поощренный этой удачей, Богров усиленно занялся окончанием 'Записок', которые появились в 'Отечественных записках' в 1871-1873 годах ┘ (отдельным изданием вышли в 1874┘)'. Если эти несколько смутные в хронологическом отношении сведения верны, работа над романом продолжалась около десяти лет. О чем же он? Что в нем происходит? Как ни примитивен, возможно, с высокой башни современного литературоведения этот вопрос, ответить на него необходимо. Повествование ведется от первого лица и начинается историей отца рассказчика, который прослыл среди земляков вольнодумцем за то, что читал книги по математике и астрономии (хотя и по-еврейски!), и община ('кагал') решает сдать его в рекруты. Только чудом избавляется он от опасности и становится винокуром в деревне, обрастает семьей. Когда рассказчику, Срулю, исполняется семь лет, мать отвозит его в городишко неподалеку и поселяет у дяди, который обучает детей первоначалам еврейских знаний, т. е. держит хедер. И дядя, и его жена, и занятия в хедере внушают ребенку тоску и отвращение. В том же дворе живет русская семья с двумя детьми, но Сруль не смеет вступать с ними в какой бы то ни было контакт. Сруль обожает музыку, а в доме у русских соседей музицируют, и он подслушивает под окнами. Однажды его ловят за этим времяпрепровождением уличные мальчишки, избивают и грозятся натереть 'жиденку' рот салом; его спасают выбежавшие из дома дети, завязывается некое подобие дружбы, в которой Сруль смотрит на своих русских покровителей с обожанием и ни в чем не может им отказать. В результате девочка, Оля, шутки ради обрезает ему пейсы. Скандал в доме дяди, еврейская семья съезжает с квартиры - подальше от 'гоев' и от греха. Товарища рассказчика по хедеру хватают 'ловцы' - охотники за рекрутами. Сруль в ужасе, потом в горячке. После отдыха в деревне у родителей его отправляют в другой ближний город для обучения на более высоком уровне, у прославленного талмудиста; рассказчик отрекомендовывает его как скрягу и ханжу. Холера в городе, меры, которые принимает против эпидемии еврейская община. Еще одна эпидемия - сватовства и свадеб малолеток: чтобы 'обойти' правительственное распоряжение, запрещающее ранние браки между евреями. Отец теряет должность винокура и находит скромное место в конторе откупщика в том самом городишке, где Сруль сдружился с русской семьей, которая тем временем куда-то съехала - к великому огорчению мальчика. Сруль учится русскому языку по примитивным книжкам (типа 'Английского милорда') и помогает отцу в конторе. Знакомство со свадебным шутом и ученнейшим талмудистом Хайкелем, 'добрым, умным, веселым чудаком', оказавшим огромное влияние на рассказчика: 'Он постепенно, методически развивал во мне наклонность к мышлению и анализу; он объяснял мне вещи, которых я не мог бы в то время ни услышать, ни вычитать. Он познакомил меня с горькою судьбою моей нации, с ее прошлым и настоящим'. Сруль отрекомендовывает его как 'замечательного в то время еврея-человека'. Благодаря Хайкелю Сруль учится играть на скрипке у клезмеров - бродячих и полунищих еврейских музыкантов: 'Мне было светло и радостно на душе в кругу этих добрых, беззаботных и счастливых людей'. По их просьбе и подсказке он ворует водку в подвале откупа, находящемся под началом его отца, но пойман с поличным, и только необыкновенная изворотливость Хайкеля спасает его от наказания. Рассказчика женят. Ему нет еще и шестнадцати, но по метрическому свидетельству - все восемнадцать. Жених и невеста никогда до сватовства не видели друг друга, ни о какой любви или хотя бы минимальной взаимной симпатии не может быть и речи: 'Тяжело мне писать эту главу моих записок. Когда подумаю, что свадьба, брак, семейная жизнь толкнули меня в житейскую преисподнюю, ┘ перо выпадает из рук; мне бы хотелось уничтожить все следы этой печальной эпохи моей жизни, вырвать с корнем всякое воспоминание о ней'. Свадьба. Жизнь в семье жены. Невежественные и тупо благочестивые тесть и теща. Раздоры с женой, недовольной равнодушием молодого мужа к религии и, к тому же, ревнивой (не без некоторого основания). И вот саркастический итог первого года брака: 'На этом прочном фундаменте построилось наше семейное гнездо, а в этом гнезде поселился вместе с нами и тот демон супружества, который специально занимается науськиванием супругов друг на друга. Поверьте, любезные читатели, этому демону не скучно было жить с нами┘'. Рассказчик снова в родительском доме, мечтает попасть в откупную систему, где уже занят его отец. Покровитель последнего помогает ему получить место в другом городе. С женою по-прежнему нелады, рождение ребенка ничего в этом отношении не меняет: никаких нежных чувств к сыну новоиспеченный отец не испытывает. Зато он сближается с сослуживцами, 'вполне сходившимися со мною в религиозных и житейских мнениях. ┘Все они прошли ту же грустную житейскую школу, ┘все жаждали европейского образования, сознавая, что старая гниль, которою напичкали их мозги, составляет лишь бремя бесполезное, негодный балласт, ┘все они┘ твердо решились перевоспитать себя и выработать убеждения более подходящие к живой истине, чем к мертвому ханжеству'. Весь кружок попадает в немилость к патрону-откупщику, всем грозит увольнение, и приятели решают основать земледельческую колонию евреев-'вольно-думцев'. Рассказчик посещает немецкую и еврейскую колонии, у немцев все замечательно, у евреев все ужасно - за единственным исключением семейства еврея из Швейцарии, порвавшего с ортодоксальными традициями и обрядами. Проект устава новой колонии запрещен начальством. Рассказчик уходит от откупщика, поступает к подрядчику, но тот еще больший жулик, чем откупщик. Мать отдает рассказчику свои сбережения, и он переезжает в деревню, открывает лавочку и кабак. Дружба с мужиками и со священником, радость физического труда на усадьбе: 'Я ужился в деревне и чувствовал себя совершенно счастливым'. Но выходит указ о запрещении евреям проживать в селах, и рассказчик уже готов перебраться в город вместе со своей лавочкой, как его поджигают: несколько ранее ему пытались продать краденое, он отказался, и теперь один из участников шайки ему мстит. Весь запас товаров, закупленных в долг, сгорел дотла. Далее следуют полторы страницы (по изданию, служившему мне источником), которые надо процитировать возможно полнее, - настолько они важны для понимания мировосприятия Богрова: 'Все сгорело, все было истреблено огнем. Я остался нищим, неоплатным должником-банкротом. Я ограбил свою бедную мать. Я опускаю завесу на мои чувства, на мое внутреннее 'я' в те минуты невыразимого горя и крайнего отчаяния; мне страшно переживать еще раз это прошлое даже мысленно. Но молодость вынослива, живуча. И в бреду самого свирепого пароксизма охватившей меня нервной лихорадки, и в то время, когда я начал исподволь поправляться, во сне и наяву, неотразимо мучили меня вопросы, неотступно вертелись в моем мозгу: - Кто виновен в моем несчастии? ┘Кто изуродовал мою жизнь? За что? С какой стороны ни взглянул бы я на свою жизнь, - пройду ли воспоминанием горькое прошлое, стану ли лицом к лицу с безуспешным настоящим, воображу ли себе вероятное будущее, - везде и всюду я наталкиваюсь на неразрешимый вопрос: кто виноват? Конечно, прежде всего я сам виноват: я - еврей! Быть евреем - самое тяжкое преступление; это вина ничем не искупимая; это пятно ничем не смываемое; это клеймо, напечатлеваемое судьбою в первый момент рождения; это призывной сигнал для всех обвинений; это каинский знак на челе неповинного, но осужденного заранее человека. Стон еврея ни в ком не возбуждает сострадания. Поделом тебе: не будь евреем. Нет, и этого еще мало! Не родись евреем. Но ведь я имел уже это несчастие - родиться, - могу ли я это совершившееся сделать несовершившимся? Мне отвечают: это не наше дело. Не ваше? так ли? А взваливать все на еврея целиком, без проверки, ваше дело? Кто кого подстрекает: укрыватель краденых вещей вора или вор - укрывателя? Кто убийца: топор ли, наносящий непосредственный удар, или разумная сила, направляющая орудие гибели на голову жертвы? Если бы я хотел задаться вопросами, робко прячущимися за кулисы невозможного, то этим вопросам не было бы конца. Я сконцентрирую их в один сжатый общий: Кто виноват? Разреши, кто может, кто смеет; я не берусь'. Боль и обида, сконцентрированные в этих полутора страничках, - подлинное 'исповедание веры' автора 'Записок еврея', и я полагаю, что при всех перипетиях в литературной и духовной биографии Богрова он от этого 'исповедания' никогда не отступал и не отказывался. Будем же помнить о нем и мы, даже если упомянутые перипетии нашего сочувствия не вызывают. Рассказчик опять служит по откупам: надо и кормить семью, и рассчитаться с долгами. Его служебное положение упрочивается: он самоучкой освоил итальянскую двойную бухгалтерию и применил ее к ведению счетов по откупу, и это создало ему репутацию в профессиональном кругу. Сын патрона, отчаянного самодура, забирает Сруля к себе в главную контору, в другой город. Столкновение с 'извергом'-управляющим и победа над ним, приносящая уважение и даже любовь сослуживцев. Но в семье все по-прежнему ужасно: 'Мой дом был не больше как квартирой для меня. Бывали у меня всегда люди более или менее развитые; жена, бывая в этом обществе, присутствуя при наших беседах, не усваивала себе ни одной мысли, ни одного порядочного выражения. Полная презрения к женщинам, стоявшим выше ее в умственном отношении, она избегала всех знакомств, которые могли бы на нее повлиять к лучшему. ┘ Дом мой сделался сборищем сплетниц, гнездом еврейской клеветы и злословия. ┘ Ни увещания, ни ссоры, ни сцены не действовали. Разойтись с нею или развестись не позволяли ни материальные средства, ни зависимое мое положение, ни мой характер, не столько еще окрепший. Я махнул на все рукою'. Рассказчик влюбляется в русскую женщину, которая отвечает ему взаимностью. Его возлюбленная оказывается той самой девочкой Олей, которая была кумиром его горького детства. Увы, она смертельно больна и вскорости умирает. После недолгого счастья с Олей отвращение к жене становится еще острее, а мысль о разводе неотступнее, но для развода нужны деньги, много денег, тем более что прежнее равнодушие к собственным детям вдруг сменяется жалостью и нежностью к ним. Далее следует своего рода 'вставная новелла' на без малого сотню печатных страниц - о том приятеле и соученике по хедеру, которого давным-давно схватили 'ловцы' и сдали в кантонисты. Замечу сразу же: пространное повествование о судьбе еврейского солдата в николаевской армии, сюжетно с 'Записками еврея' совсем не связанное, есть, как мне видится, высшее художественное достижение в 'Записках', если не во всем, что осталось от Богрова-художника. Мы вернемся к этой главе 'Записок' ('Похождения Ерухима') в связи с повестью 'Пойманник', увидевшей свет сразу вслед за 'Записками' и посвященной той же теме: 'ловцам' и их жертвам. Сруль оказывает важные услуги своему принципалу и в его 'свите' попадает впервые в Петербург: 'Я не в состоянии изобразить тот восторг, который овладел мною, когда я, с моим принципалом, в качестве кассира и секретаря, в первый раз очутился в северной нашей Пальмире, ┘ когда увидел новый свет, новых людей и новую жизнь. Я трудился и работал пуще прежнего, но трудился с наслаждением, с увлечением, не уставая. У меня имелась цель в перспективе, воображение мое рисовало соблазнительную картину будущности. Я не был алчным по натуре; мой идеал счастия не шел далее умеренных материальных средств. Но при виде того миллионного рынка, который открывался во время откупных торгов в сенате, где сотни тысяч и миллионы выигрывались и увеличивались в несколько минут, в нескольких лаконических словах, где баснословные суммы ежеминутно переходили из рук в руки, перебрасывались, как щепки, - голова моя закружилась. Меня рвало вперед общее течение; я заразился жадностью к деньгам, к богатству; в моих мыслях и представлениях о счастии произошел полный переворот. ┘ Я убедился в ненасытности человеческой натуры на самом себе'. Но и за всем тем, продолжает рассказчик, не деньги сами по себе были его целью, а 'тот мираж, который люди величают счастием'. А мираж - на то и мираж, чобы ускользать и не даваться в руки: оказывается, что сравнительно высокое положение в еврейском образованном обществе составляет лишь 'миниатюрное мнимое счастьице', и главным содержанием жизни Сруля, главной целью становится, так сказать, величина отрицательная: избавиться от постоянного присутствия ненавистной и неисправимой жены, от совместного с нею проживания; только при этом условии можно будет дать детям 'образование по европейскому образцу', что означает, в первую очередь, не традиционно еврейское, но русское и, вдобавок (а может быть, не может не задать себе вопрос читатель, не в первую ли очередь?) нерелигиозное или хотя бы прохладное по отношению к иудаизму. В самом деле, в непосредственном соседстве к 'европейскому образцу' стоит прямое признание в 'антирелигиозном образе мыслей', а чуть ниже - любопытнейшее разъяснение касательно реакции родственников жены на это, столь печальное для них обстоятельство: 'Что же касается моего антирелигиозного направления, то, хотя они в душе меня презирали, осуждали, но, считая богачом, мирились с ним, стараясь смотреть сквозь пальцы на мое вольнодумство и некоторые отступления от обрядной стороны еврейской религии. Замечательно то, что самый бешеный еврейский фанатизм преклоняется иногда пред силою богатства. То отступление от бессмысленного обряда, за которое бедного человека забросали бы каменьями, дозволяется богачу почти безнаказанно'. Какие только меры ни принимает Сруль, чтобы разъехаться по-доброму, жена продолжает делать ему самые невероятные пакости, и он вынужден прибегнуть к крайнему и последнему средству - к разводу. Но 'китайская церемония эта, в сущности, не произвела никаких перемен. Разведенная жена живет и пользуется материальными удобствами по-прежнему и носит имя мужа по-прежнему. Церемония эта лишила ее только тех грубых прав, которыми она злоупотребляла, которыми она отравляла мою жизнь и вводила смятение и неурядицу в родную ей семью'. И заключительное признание: мираж под именем 'счастие' все так же манит и все так же неуловим, но и прежней веры в него нет уже по той простейшей причине, что рассказчик перевалил за роковой сорокалетний рубеж и жизнь его склоняется к закату. Прежде всего, договоримся, что не станем задаваться вопросом автобиографичности отдельных эпизодов и ситуаций в 'Записках': как уже говорилось в самом начале, ответа на этот вопрос мы отыскать не в силах. Вместе с тем некоторые детали повествования представляются заимствованными из жизненных обстоятельств автора и могут быть ему возвращены - без доказательств, одною читательской интуицией. Вот рассказчик в саркастическом тоне отрекомендовывается попутчику, некоему князьку, фанфарону, трусу и антисемиту: 'Мой чин - стотысячный┘ мое звание - купец или шахер-махер┘ Мой титул - жид!'. Бравада рассказчика и его превосходство над князьком могут быть подлинным фактом или вымыслом - это мало что изменит, но 'стотысячный купец', т. е. купец с капиталом, дающим право на первую гильдию и, следовательно, на проживание вне черты оседлости, вполне может объяснить появление Богрова в столице в первую половину семидесятых годов. Но это еще не все. Эпизод с князьком открывается следующим пассажем: 'Это случилось года четыре тому назад, в половине декабря. Я возвращался из Петербурга. Верст девяносто или больше за Москвою оканчивалась линия железной дороги. До Харькова, где я оставил свой экипаж, приходилось доехать или на перекладных, или же в дилижансе'. Процитированные строки (из Части первой, главы девятой) впервые увидели свет в 1871 году, из чего можно заключить, что к 1867 году солидное состояние уже было приобретено, но проживал 'стотысячный' где-то в юго-западных губерниях, за Харьковом. Вообще география 'Записок' довольно тщательно замаскирована, за исключением заключительной главы, действие которой происходит в 'польско-русской местности'. Если в будущем кто-либо заинтересуется специально биографией Григория Богрова, этот биограф найдет в 'Записках' немало подобных, безошибочно взывающих к интуиции подробностей и намеков. Сплетение житейских обстоятельств, формирующих судьбу еврейского ребенка, подростка, юноши, может быть в значительной мере случайным, но внутренний его путь, внутреннее созревание подчинены известным закономерностям, укладываются в определенное, ограниченное число моделей или шаблонов. Богров, вне малейших сомнений, принадлежит к шаблону, а вернее было бы сказать - к магистральному пути еврейского Просвещения, Хаскалы. Я столько раз писал о Хаскале в России, в частности - в больших статьях о двух первых отцах-основателях русско-еврейской словесности, Осипе Рабиновиче и Льве Леванде, что позволяю себе не повторяться и прямо отсылаю читателя к этим двум статьям. Посмотрим на некоторые аспекты просветительского (маскильского) мировосприятия Григория Богрова. Разумеется, он непримиримый и неумолимый враг ортодоксальной традиции, обветшалой обрядности, системы образования, обветшалых социальных отношений внутри общины, архаического платья, причесок, короче - всего, что обособляет еврея, отделяет его стеною от окружающего большинства. Это особенно живо ощутимо в обильных примечаниях, описывающих и разъясняющих еврейские нравы и верования. Вот одно из них, для примера: 'В смысле гигиеническом, Моисей запретил употребление в пищу 'траф', то есть падаль или животное, растерзанное хищным зверем. Талмуд, на этом основании, неведомо почему, запретил в пищу мясо животного, убитого не посредством перерезания горла. Резник должен быть непременно специалист, сдавший известный экзамен. Свойства употребляемого им ножа и обряды, сопровождающие операцию 'перерезания горла', установлены сотнями параграфов. Странное противоречие! Великий обряд 'обрезания' избавлен от подобной щепетильности: тут всякий желающий, без подготовки, имеет право сделаться оператором, на пагубу несчастных детей, нередко погибающих от невежественной руки импровизированного хирурга┘'. В примечаниях автор обращается к читателю впрямую, не прячась за спиною рассказчика, - тем показательнее интонация раздражения, ожесточения, достаточно ясно здесь звучащая. Целесообразно процитировать, для сравнения, публицистический пассаж 'от рассказчика': 'Надобно знать, что мыслящие евреи прежних времен, позволяя себе мысленно осмеивать традиционные абсурды своей среды, никогда почти не осмеливались прилагать свои логичные отрицания и разумные взгляды к практической стороне жизни. Осмеивая в душе бессмысленные обычаи и порицая вредные принципы, они, по большей части, на деле носили личину фанатизма и суеверия, выполняли с автоматичною точностью все мелочные, тягостные религиозные обряды, избегая нарушения малейшего запрета, привитого вековым обычаем. Следствием тогдашнего исковерканного воспитания, забитости, запуганности и ригоризма еврейско-духовных инквизиций ┘ было то, что даже у разумных, мыслящих евреев тогдашнего времени не хватало ни характера, ни твердости духа, ни последовательности, ни смелости дать своим детям более разумное, более реальное напраление и развитие; напротив того, родители всеми строгими мерами приучали своих бедных детей 'с волками выть по-волчьи'. И для пущего примера сами старались 'выть' как можно громче'. Идентичность интонаций не вызывает сомнения: то же кипение непримиримой вражды, та же агрессивность. Эта идентичность - не лучшее ли доказательство идентичности автора и повествователя, Богрова и так и не названного по фамилии Сруля, по крайней мере в том, что касается внутренней, духовной жизни? Поэтому, когда Сруль, на самой первой странице 'Записок', заявляет, что, хотя история его заурядна, она могла бы заинтересовать если уж не всех читателей подряд, то, по крайней мере, евреев и при этом 'собратья по вере' осознали бы весь безысходный ужас своего положения, пробудились духом и двинулись по пути к новой жизни, достойной человека и его разумной природы, - эта программа и цель начинают внушать некоторые сомнения довольно быстро. Слишком уж велика его ожесточенная нетерпимость ко всему еврейскому, скажем точнее - почти ко всему. В самом деле, что хорошего, достойного похвалы находит в своем народе автор 'Записок еврея'? Прежде всего - сплоченность в благотворительности и милосердии: '┘Бедняки делились последним грошем, последней коркой хлеба с теми, которые были еще беднее, еще беспомощнее. Подобные примеры братства и самопожертвования повторяются сплошь да рядом в еврейских обществах до сих пор. Вот за что нельзя еврею не любить и не уважать своей нации. За эту великую черту добродетели и человеколюбия да простится ей многое'. На этом, собственно говоря, перечень добродетелей и заканчивается. Впрочем и единственная, казалось бы, бесспорная, может быть поставлена под вопрос. Рассказав, что в хедере всего больше любят того, кого терпеть не может учитель, а учительского любимчика все ненавидят, Богров заключает: 'Черта эта так глубоко врезывается в характер еврея с детства, что она не оставляет его и тогда, когда из сотоварища по хедеру он переходит в сочлены по обществу. Еврей отдаст последнюю рубаху своему пострадавшему собрату, разделит с ним последний кусок хлеба в несчастии, но проникнется ядовитою завистью и злобою, когда его собрату повезет в жизни. Он собственноручно готов разрушить счастие своего собрата, без всякой пользы для себя, лишь бы поставить его наряду с собою'. Вот вам и обратная сторона еврейской благотворительной солидарности - по Богрову! Русско-еврейский просветитель Богров не может не сознавать, что пороки его 'нации' рождены ее судьбою в истории. По поводу обвинений евреев в трусости он, признавая их справедливость, указывает на то, что еврейская трусость - следствие 'несообразного воспитания' и вековых гонений. 'Дайте еврею другое, более разумное и здоровое воспитание, развейте его мускулы физическими упражнениями, кормите его питательной пищей, дайте ему чистого воздуха вдоволь и не мучьте его детскую голову сухими, бесполезными предметами талмуда - и конечно, из него выйдет и здоровый работник, и смелый воин, и славный боксер'. И далее следует одно из самых странных признаний в любви, какие мне случалось читать на русском языке: 'Я люблю свою нацию при всех ее недостатках. Люблю я ее еще больше потому, что в этих недостатках виновата собственно не она, а тот жестокий рок, который ее преследовал и преследует поныне, та среда, которая не желает ее радикально перевоспитать, чтобы не лишиться забавного, безвозмездного шута; то еврейское духовенство, которое для своих материальных интересов и мелкого честолюбия изуродовало, исковеркало своим вредным влиянием тех, которые ему слепо вверились; виноваты те влиятельные денежные еврейские мешки, которые, обладая миллионами, не перестают суетиться до гроба об умножении своих миллионов, упуская из виду несчастных, нравственно изувеченных своих собратьев, которых направить на прямой путь разумной жизни вовсе не так трудно, как кажется. Трудно только любить своего ближнего и заботиться о его благе'. Оставим в стороне загадочную 'среду', заинтересованную в бесплатном шуте: если это в ее силах и возможностях - 'радикально перевоспитать' всю 'нацию', то речь явно должна идти не о крестьянстве западных губерний, в гуще которого стяжает себе пропитание 'забавный' жид, и не о городском обывателе, мещанине, в 'черте' и за ее пределами, 'средою' здесь, по всей очевидности, обозначено издающее законы начальство, т. е. нечто, еврейству внеположное, действительно своего рода 'рок'. Но второй и третий 'виновники' - часть 'нации', и эту часть Богров, столь же очевидным образом, не только что не любит, но прямо-таки ненавидит. Не станем придираться к тому, что у евреев в рассеянии никогда не было 'духовенства' как обособленной социальной и (или) профессиональной группы, т. е. в том смысле, как понимали это слово русские читатели Богрова. По всей видимости, автор имеет в виду лиц, в той или иной функции удовлетворявших религиозные потребности евреев. Тогда в эту категорию войдут не только раввины и хасидские цаддики, но и изрядная толика малых сих (словами Богрова - 'нравственно изувеченных собратьев'), вплоть до резников, синагогальных служек и входящих в погребальные братства. Впрочем, и безотносительно к целой армии тех, кого позже, в советское время, нарекли емким прозванием служителей культа, собратья-евреи не вызывают у автора 'Записок' никакой симпатии - за редчайшими исключениями. Систематический обзор всех персонажей, главных и второстепенных, не оставляет в этом сомнения. При этом к традиционным для маскила обвинениям (типа неопрятности, легкомыслия, неуместного щегольства и т.п.) присоединяются уж совсем неожиданные и ни с чем не сообразные, вроде следующего: 'Город Л. славился разгульностью своих еврейских обитателей. Мужья, жены и чада, при всякой оказии, напивались там, как сапожники, и отплясывали по улицам, как бешеные, по целым неделям'. Даже в рекрутчине малолеток (кантонистов) повинны, оказывается, сами евреи, еврейские нравы: 'Неразумное правило еврейского общества женить сыновей в детском почти возрасте ┘ ставило общества в печальную необходимость отбывать рекрутскую повинность преимущественно малолеткам. Только они одни не успели еще сделаться отцами семейства; все прочие, которых можно назвать рабочей силой, были уже обременены женами и детьми. Отдай подобного члена в военную службу, и вся семья ┘ должна повиснуть на шее сердобольного еврейского общества'. Вообще ранние браки особенно ненавистны Богрову, он видел в себе самом одну из жертв этого обычая и не упускал случая отозваться о нем соответственно. Неприятие чего бы то ни было еврейского становится особенно интенсивным при сравнении еврейского мира с русским, которое для рассказчика начинается в детстве. 'Я проводил мысленно параллель между счастливою жизнью этих детей, цветущих здоровьем, веселых, игривых, свободных, и моей мученической жизнью, полной унижений, лишений и неволи'. И до самого конца романа сохраняется этот взгляд снизу вверх, восхищенно-завистливый. Впрочем, Богров - хотелось бы подчеркнуть: не рассказчик, но сам автор - ощущает некоторую уродливость этого варианта еврейско-русских отношений. Даже теперь, жалуется он (т. е. в начале 1870-х, дата публикации Части первой), еврей с величайшею благодарностью принимает от русского любую ласку, тогда как во всей повадке ласкающего всегда заметно нечто покровительственно-высокомерное! Что же говорить о прошлом! Однако же и тут, сокрушаясь о стойкости вековых предубеждений против евреев, восклицая: 'О, то было страшное, позорное для евреев время!' - он не преминул возложить частицу вины на них самих: '┘то печальное время, когда они сами были далеки от всякой уступчивости, от всякой готовности к слиянию с прочими соотечественниками'. Только ли частицу? Это отчуждение от своих и своего нагляднее всего, возможно, в прорывающихся ненароком словечках. Повествуя о том, что мучило его на новом месте службы отца, рассказчик перечисляет в одном ряду плохую квартиру, скудную и скверную пищу и 'еврейский гам, стоявший на дворе целые дни'. В знаменитом эссе ('фельетоне') 'Четыре сына' Жаботинский говорит: если на месте 'мы' появляется 'вы' - что это у вас там за странный обычай? - пиши пропало, старым связям конец. Но ведь 'еврейский гам', mutatis mutandis, именно это и обозначает: сорокалетний рассказчик ли, Богров ли, а скорее оба вместе с презрением вспоминают, как гомонила за окнами еврейская толпа, и отнюдь себя к ней не причисляют - ни задним числом, ни, тем более, во времени рассказа. Вернемся, однако, к 'духовенству'. Не одно только несуществующее сословие служителей культа, но и сама еврейская религия, иудаизм не вызывает у Богрова никаких теплых чувств. И не в одном лишь хасидском варианте, что было бы естественным для маскила, но и в традиционном, талмудически-раввинистическом. В рассказ о семье еврейского колониста родом из Швейцарии включена целая программа религиозной реформы, которая, в самом сжатом виде, может быть сведена к так называемым 'законам ноахидов', т. е. к самым общим моральным принципам, обязательным, в раввинистической традиции, для всего человечества (тогда как евреи обязаны соблюдать все 613 заповедей, предписываемые Торой). Талмуду отводится роль чисто методическая, приготовительно-образователь-ная: 'очень полезная экзерциция для молодого мозга'. Но бесчисленные обряды и молитвы, 'не оставляющие земледельцу и ремесленнику достаточного времени для своего дела', должны быть отменены. И заключение, в духе, нам уже отчасти знакомом: 'Пока евреи-тузы будут коснеть в своем грубом эгоизме, пока образованный класс евреев не перестанет отчуждаться, пока не образуется раввинская комиссия для пересмотра религиозно-обрядного кодекса, тормозящего жизнь еврея, - до тех пор евреи будут несчастны, гонимы и презираемы. Но евреи - я подразумеваю толпу - вряд ли допустят какие-нибудь нововведения в религиозно-обрядной их жизни и обычаях'. Не станем оценивать эту программу - ни перспективу превращения евреев в ноахидов, к которым раввины уже в средние века причисляли и христиан, ни искать сходства и различий с программою Духовно-библейского братства Якова Гордина, упоминавшегося в предыдущей главе, - для нас важна не потенциальная ее опасность или благотворность, осуществимость или утопичность. Для нас она интересна и показательна как симптом или, может быть, свидетельство глубокой разобщенности со всеми слоями еврейского общества в России, начиная с самых низов ('толпа') и кончая верхушкой ('евреи-тузы', которых в другом месте, уже приводившемся выше, Богров называет 'влиятельными денежными еврейскими мешками', и 'образованный класс'). Но ведь сам автор-рассказчик со своими ста, а, может быть, и более тысячами, а если заглянуть вперед, со своею синекурою в банке у Абрама Зака, со своею руководящею ролью в редакциях 'Русского еврея' и 'Рассвета', принадлежит и к 'тузам', возможно, не самым 'влиятельным', но всё же, и к 'образованным'; остается предположить, что он должен ощущать двойное отчуждение - от своего народа в целом и от своей социальной группы. Чувство двойной изоляции накладывается на его характер, раздражительный, желчный, обидчивый, легко поддающийся соблазну как высокомерия, так и уныния (все эти черты автор не только не скрывает, но, напротив, выставляет напоказ), - и мы легко поймем запальчивость и ожесточенность обвинений против единоплеменников и единоверцев, упорно цепляющихся за свои предрассудки и пороки. Автору-рассказчику тяжко и в своей среде, и в своей ситуации. Вот он, достигнувши уже немалых успехов 'в коммерческой и служебной деятельности', занесен службою в самую гущу еврейской жизни в черте оседлости, изобилующую моральными монстрами разного рода. 'Мое положение в этом обществе было самое неприятное. Я был знаком со всеми, но сходился лишь с теми очень немногими, которые могли внушить мне хоть какой-нибудь человеческий интерес. Я старался быть полезным всем, но не мог скрывать презрения к тем гнусным субъектам, которых считал позором своей нации, пятном человечества. ┘ Еврейское местное общество невзлюбило меня с первого же дня, причислило к разряду людей, слишком о себе мечтающих, и прозвало в насмешку 'аристократом'. ┘ Мое положение было самое несносное и своеобразное: евреи причисляли меня к русскому лагерю, а русские, при всяком удобном случае, причисляли меня к жидам, которые забывают свое место'. Мне неизвестно, по каким именно петербургским редакциям долго скиталась рукопись 'Записок' (как о том упоминается в самом начале настоящей подглавки), но интерес, проявленный Некрасовым, едва ли был чисто этнографическим. Не следует забывать, что великий печальник и певец русского крестьянства, главный редактор 'Отечественных записок' был примерным юдофобом, о чем свидетельствует хотя бы поэма 'Современники', написанная и напечатанная в 1875-1876 годах, т. е. всего через два года после появления последних глав 'Записок еврея'. Тотальная атака на все еврейское, предпринятая не отступником, не выкрестом, но евреем же, так сказать изнутри, должна была ему импонировать. Как импонировала она и всем прочим, скажем, недоброжелателям евреев, которыми было - и, увы! продолжает быть - столь обильно русское образованное общество, русская интеллигенция, ныне обозначаемая расплывчатым термином 'интеллектуалы'. Здесь, по моему крайнему убеждению, источник (главный источник!) успеха 'Записок еврея' у русского читателя. В самом деле, вот два отзыва из тогдашних периодических изданий: 'Записки еврея' - ┘ рассказ, имеющий в виду дать понятие о том, что такое еврей, как он живет, на что способен и что от него можно ждать. ┘ Г. Богров порассказал о евреях немало такого, что они охотно готовы были бы скрыть и что действительно скрывали, чувствуя всю невыгоду разоблачения; в своих рассказах он явился сильным их обличителем и бичевателем┘'. 'Увлекаясь защитой своей национальности, еврейские публицисты доходят до абсурда и вопиющей лжи в отрицании вполне справедливых фактов и отзывов, касающихся темных сторон еврейского быта. ┘ Они не только не признавали поголовного невежества своей нации, но, напротив, считали ее чудом образованности и гениальности, пересчитывали в сотый раз своих великих людей, 'которых дала миру еврейская нация', восхваляли ее честность, хотя каждый на себе испытал ее грубый эгоизм, удивлялись ее гуманности, тогда как она не переходила за пределы тесного еврейского кружка или кагала. ┘ Г. Богров решил встать на совершенно иную почву. ┘ ┘Первый между пишущими евреями он решился вложить зонд в самое больное и чувствительное место еврейской национальности - в ее излюбленные традиции. Он направил свои удары против талмуда, на котором, действительно, зиждется весь строй еврейской гражданственности, и вот почему новая операция, которую он произвел на больном теле своих единоверцев, вызвала в них такие отчаянные стоны и такой бессильный протест'. Действительно, что до читателя еврейского, то, невзирая на энтузиазм части ассимилирующейся (эмансипирующейся) молодежи, примером которой, и примером весьма серьезным, весьма убедительным, может служить Дубнов, чей отзыв о 'Записках еврея' я уже приводил, тотальная недоброжелательность Богрова не могла не смущать, не отталкивать этого читателя. О причинах молодого энтузиазма можно спорить, но веской роли того обстоятельства, что 'Записки' по многим признакам принадлежали к так называемой 'обличительной' литературе, порожденной атмосферой послениколаевской оттепели и Великих Реформ и все еще притягательной, модной даже в 70-е годы, этой роли отрицать, вероятно, не станет никто. Надобно только иметь в виду, что тем, кого мода на обличения не ослепляла, отрицательную реакцию высказать было непросто, по разным причинам, первою из которых приходится считать предельную малочисленность русско-еврейских периодических изданий в те годы - в буквальном согласии с поговоркой 'раз-два и обчелся'. В 1873-м, в год окончания журнальной публикации 'Записок еврея', прекратилось последнее из них, 'Вестник русских евреев', который неоднократно возвращался к 'Запискам' по мере их появления в журнале, и, к тому же, не однозначно отрицательно. Так что 'отчаянным стонам и ┘бессильному протесту' просто негде было раздаться. Тем показательнее отклик известного в еврейских кругах историка и публициста Михаила Кулишера на третью главу богровского романа, где, напомню, рассказывается, как уличные мальчишки собираются натереть рот Срулю салом и как его спасают соседские дети-православные. Кулишер считает, что аргументация спасителей (уличные хулиганы: 'А зачем они режут наших детей и пьют христианскую кровь?' - защитники-избавители: 'Это не он, ┘ ей-Богу, не он') равнозначна кровавому навету, и на этом основании 'причисляет 'Записки еврея' к массе литературных инсинуаций брафманского периода'. Несостоятельность обоих этих умозаключений бьет в глаза особенно резко оттого, что Кулишер бывал обыкновенно и справедлив, и разумен. Кажется, что именно общая враждебность автора 'Записок' еврейству спровоцировала критика на прямую несправедливость, граничащую с глупостью, и автор совершенно прав, когда в своего рода эпилоге, отвечая своим критикам, вступать в полемику с Кулишером отказывается и даже назвать его по имени не удостаивает. Однако, по всей видимости, и тогда, сто тридцать лет назад, отсутствие любви, или хотя бы симпатии, или элементарной, инстинктивной теплоты к своим не могло пройти незамеченным. И потому напрасно Богров упрекает 'единоверцев', которые 'изустно, письменно и печатно ┘ сливались в общий тон порицания'. Порицали и Рабиновича с Левандой, 'выносивших сор из избы' в одесском 'Рассвете', первом повременном издании российских евреев (1860-1861), но никогда порицания не были такими ожесточенными. Не потому ли (хотя бы отчасти!), что Леванда и Рабинович обращались к 'своим', а за самыми беспощадными разоблачениями скрывалась неразрывная привязанность к ним же, к 'своим'? И когда в том же эпилоге предлагается, в виде некоторого вывода, итога, самая общая схема реформ: 'Вместо того, чтобы оглашать безответную пустыню жалобами, вздохами и воплями; вместо того, чтобы всуе взывать к каким-то заоблачным орошениям, целесообразнее было бы обратить внимание на родную почву, очистить ее от толстого слоя сора, удобрить ее, обновить заржавленный, неуклюжий, выживший из употребления плуг, разумно вспахать родное поле и засеять его плодоносным зерном европейской культуры', - можно ли принимать эти слова за чистую монету, а не за цветы красноречия? Ведь мы уже у самого финала 'Записок' и, стало быть, знаем, каким холодным взором - взором чужестранца! - глядит автор-рассказчик на 'родное поле'! Таков, как мне видится, идеологический посыл 'Записок еврея', и обращен он скорее вовне, к русскому читателю, хотя на самой же первой странице утверждается, что автор рассчитывает больше на 'еврейскую читающую публику'. Я полагаю также, и постараюсь это показать, что посыл не изменится до конца жизни Богрова. Но посыл посылом, а 'Записки' считались и продолжают считаться принадлежащими перу беллетриста. Каковы же качества этой художественной прозы? Автобиография позволяет и, пожалуй, даже требует нанизывать эпизоды на хронологический стержень, и проблем композиции или сюжетосложения Богрову решать не приходилось, едва ли он их перед собою и ставил, что не исключает, разумеется, отступлений, весьма, впрочем, немногочисленных. Самое значительное из них - 'Похождения Ерухима', целая глава Части второй; я мельком говорил о ней выше и еще вернусь подробнее. Пока же лишь отмечу: поскольку связь между повествованием о злоключениях еврейского солдата и автобиографическим повествованием сугубо искусственная, возникает впечатление, что автор-рассказчик более не находит достойного материала в собственном житейском опыте и обращается к чужому, опасаясь, что повествование иссякнет вообще. Признак неопытности, вполне, впрочем, естественной у начинающего, несмотря на вполне зрелый возраст, литератора. В какой мере близок к истине Богров-бытописатель? Ведь мы уже видели, что собственно русская критика хвалила его за открытие неведомой прежде русскому миру еврейской жизни, да и среди немногих еврейских критиков были голоса, признававшие 'верное воспроизведение' изображаемой автором 'Записок' жизни. Обратимся еще раз к статье Цинберга: 'Произведения Богрова представляют значительный бытовой интерес, хотя они в художественном отношении страдают излишней тенденциозностью и сухой рассудочностью. ┘ При всем богатом знании быта и тонкой наблюдательности Богрова картина получается односторонняя: слишком резко, с одной стороны, отрицательное отношение Богрова к традиционному иудаизму и его духовным представителям, а с другой - подчеркивание того, что духовное возрождение народа и его радикальное перевоспитание мыслимы только при превращении традиционной религии в рационалистическо-моральное учение┘'. Нет сомнения, что видеть в Богрове некое подобие исторического или этнографического источника (как бывало не раз) никак нельзя. Давным-давно подмечено, что он не знает себе равных в описании ужасов и мерзостей еврейского дореформенного быта. Но тот же быт, под пером практически любого из русско-еврейских писателей любого периода и поколения, не теряя в трагической мрачности фона, демонстрировал хотя бы крохотные просветы надежды - будь то поэзия религиозного экстаза, будь то беззаветное бескорыстье благотворительности, будь то столь же бескорыстное служение обществу и т.п. Еврейский быт в 'Записках' черен беспросветно, и из важного элемента идеологического посыла это переходит в эстетический принцип, в эстетику не столько отчаяния, сколько уныния, монотонного и потому скоро приедающегося. Нарушающие монотонность эмоциональные 'взрывы' редки, и, видимо, неслучайно самый среди них яркий, остающийся в памяти, приходится на чужую жизнь ('Похождения Ерухима'), не на историю самого рассказчика. Как работали над рукописью в редакции 'Отечественных записок', неизвестно, но что редакторская правка была большая, сомневаться едва ли возможно. Самоучка-начинающий не мог не быть слаб не только в писательской 'технике', но и в русском языке. Многочисленные и грубые следы этой слабости остались в тексте; я приведу несколько примеров. Из тома первого по изданию, на которое даются отсылки в примечаниях: длинновязый (стр. 57 и далее), выправить отекшие члены (стр. 66), состроить снежную бабу (стр. 75), они разнежились ко мне (стр. 148), человек с коренастыми плечами (стр. 304), съедомое (вместо 'съестное', стр. 307). Из тома второго: недоумело (стр. 15), импонировал их (стр. 67), плевшиеся (от 'плестись', стр. 71), раздирательный голос (стр. 74), недоконченный муж (вместо 'недоделанный', стр. 100). Из тома третьего: не сожалей меня (стр. 102), позлащать горькую пилюлю (вместо 'подслащать', стр. 115), влача за собою ноги (стр. 155), нагнувшись под дерево, над моим ухом раздался страшный треск (стр. 200). Недостаточная укорененность в языке может вести к нелепостям, которые я называю 'неуместностями', или 'анатопизмами' (по аналогии и в параллель с анахронизмами). Только один пример: 'Раби Шая ┘ пил на родинах в роли крестного отца' (том третий, стр. 299). Называя крестным отцом сандака, т. е. человека, который держит новорожденного на коленях во время обряда обрезания, Богров грешит не против истины, которая ему разумеется, известна, - он не чувствует, именно не чувствует, насколько 'крестный отец' неуместен, бестактен, чужд в еврейском контексте. При всем том Богров отнюдь не был литературно глух или, пользуясь замечательным театральным термином, профессионально непригоден. Наоборот, он был вполне способен на точные и изящные формулировки, на игру со словом. Опять-таки только один пример: 'С тех пор не только слово жид, но просто буква 'ж' внушает мне омерзение. Если бы это было в моей власти, я эту проклятую, гнусную букву вычеркнул бы навсегда из списка живых ее сестер'. Если я так подробно и долго говорил о 'Записках еврея', причина не в том, или, по крайней мере, не только и не столько в том, что в наследии Богрова они живее всего; думаю даже, что их можно было бы и стоило бы переиздать, хотя и не в первую очередь. Нет, основная причина в том, что, как было замечено задолго до меня, 'Записки' - главное и самое значительное произведение Богрова и что 'книга эта - не эпилог к завершившейся жизненной борьбе, а, наоборот, пролог к этой работе, ее предварительное обоснование'. Всего Богрова, и прозаика и публициста, и семидесятника и восьмидесятника, можно и нужно выводить из 'Записок еврея'. Что мы и постараемся сделать. От 'Отечественных записок' к русско-еврейской периодике: семидесятые
годы В 'Русском еврее' и в 'Рассвете'В 1879 году в столице открылись сразу два еврейских еженедельника на русском языке; после долгой, почти десятилетней спячки русско-еврейская периодика возвращалась к жизни; начинался петербургский период ее существования; первым был одесский - в Одессе она и родилась, в виде еженедельника ┘'Рассвет'! Этому названию в русско-еврейской журналистике была суждена особая роль: целых четыре издания носили имя 'Рассвет' в промежутке между 1861 и 1935 годами.'Русский еврей' появился на свет примерно на полгода раньше, и эти полгода Богров, как отмечает Цинберг, был его фактическим редактором, а затем перешел в 'Рассвет', уже в качестве одного из двух официальных соредакторов. В 'Рассвете' он и печатался очень активно и обильно, под собственной фамилией и под псевдонимом 'Бен-Рабби' в 1879-1880 годах, и в меньшей мере позже, в 1881 и 1882. Перемена адресата - обращение к еврейскому читателю - не могло не дать себя знать. Возьмем для примера одно из первых выступлений Богрова в новом качестве, еще в 'Русском еврее', статью 'Талмуд и Каббала по 'Русскому вестнику', как рекомендует ее сам Богров - 'поверхностный разбор курьезного рассказа 'Ракушанский меламед' Н. С. Лескова, опубликованного 'Русским вестником' в предыдущем, 1878. И в самом деле, это не 'разбор', не рецензия на известный рассказ Лескова, а ядовитая пародия, сатира на невежество 'почтенного автора' во всем, что касается еврейства, и, в конечном счете, защита еврейства от помойного потока клевет, которые на него льются. Лесков, 'по-видимому, записался в число современных и - что всего хуже - неумелых Фаддеев Булгариных, которые, желая во что бы ни стало потешать и смешить публику, сделали из глумления над еврейством свою благородную профессию. ┘ Фальшь всех этих господ-рассказчиков 'о евреях' или 'из еврейского быта' вытекает из того, что они не дают себе труда изучить хоть сколько-нибудь тот предмет, о котором они с наглостью и лживостью рассказывают в печати и с театральных подмостков. Они столько знают о религиозной, кагальной и частной жизни еврея, сколько любой краснокожий знает о жизни в наших женских институтах. ┘ Еврей, копируемый на сцене, рисуемый в печатных очерках, иллюстрируемый в рассказах, обладает какими-то измышленными, исковерканными, изуродованными манерами и ужимками, его речь и акцент редко согласуются с истиной, его междометия придуманы досужею фантазией разных клоунов, лягающих безнаказанно придушенного, пришибленного, отданного на поругание человека'. Мне представляется, что такую резкую, такую запальчивую апологию, такое обличение Богров в редакцию русского журнала, скажем в 'Отечественные записки' или в 'Слово', принести не решился бы. А если бы и решился, то, скорее всего, попусту, понапрасну: редакция не пропустила бы. Но, с другой стороны, трудно представить себе такие гневные строки выходящими из-под пера автора 'Записок еврея' или 'Еврейского манускрипта', иначе говоря - до прихода Богрова в еврейскую журналистику. Быть может, лучшее, самое полное и разностороннее представление о публицистике Богрова дает цикл статей 'Община и порядок', написанный после разрыва с 'Рассветом' и напечатанный в семи выпусках 'Русского еврея' за 1883 год. Но прежде - об этом разрыве, вкратце, не входя в детали отношения Богрова ни к общему направлению журнала, ни к отдельным авторам и их идеям. Как и для всего еврейского населения России, Великие погромы 1881-1882 годов были для сотрудников и руководителей 'Рассвета' великим потрясением. Прежние надежды - эмансипация, равноправие, слияние с коренным населением и т. д. - оказались иллюзиями, развеялись. Было решено, что остается только один неиллюзорный выход - эмиграция. 'Рассвет' становится глашатаем и пропагандистом организованного бегства из России. Для Богрова это было неприемлемо, хотя и его радикальное ассимиляторство испытало, вне всякого сомнения, тяжелый удар и урон, и, когда его соредактор в январе 1882 напечатал, без его согласия, отчет о встрече министра внутренних дел графа Игнатьева с представителем еврейской общественности и автором 'Рассвета' доктором медицины Оршанским, в ходе которой министр произнес свою знаменитую фразу: 'Западная граница для евреев открыта', - Богров вышел из состава редакции. Его разъяснения на этот счет были напечатаны, в виде 'письма в редакцию' 'Недельной хроникой Восхода', третьим столичным еврейским еженедельником, который начал выходить в 1882 году и к которому мы еще вернемся. Письмо появилось в ? 9 за 1882 год, 26 февраля (по старому стилю), столбцы 206-209. Такова точная хронология разрыва. Добавлю только несколько доводов Богрова - для полноты картины. Во-первых, повторение погромов в ближайшее время почти невероятно. Во-вторых, никакого разрешения на свободное выселение из России министр не дал, а самовольно выселяющиеся совершают преступление, чреватое соответствующим наказанием. В-третьих, учредить переселенческий комитет, который улаживал бы все проблемы, связанные с эмиграцией, в мало-мальски короткий срок невозможно. Вывод: напечатав интервью с министром, журнал поступил безответственно, погнался за сенсацией и 'натворил много бед в провинции, вред, во многих случаях неисправимый'. Разделять ответственность за это Богров отказывается. Читатель не забыл, что Цинберг называл другую решающую причину выхода Богрова из редакции 'Рассвета', а именно: 'близкие сношения Богрова с образовавшимся в 1881 году в Елисаветграде Духовно-библейским братством, против которого решительно выступил 'Рассвет'. Нет никаких оснований не доверять самому Богрову, но и пренебречь суждением такого авторитета, как Цинберг, было бы непростительно. Тем более, что оно находит отклик в уже названном публицистическом цикле 'Община и порядок'. Отклик, правда, как мы увидим, противоречивый. Прежде всего заметим, что заголовок содержанию не отвечает. Возможно, цикл и был задуман как некая вариация на одну конкретную тему, вынесенную в заглавие, но в ходе работы разросся и в объеме, и тематически: стал обзором если не всех, то множества еврейских бед и неотложных нужд, как они виделись Богрову, умудренному все же опытом погромов. Несмотря на 'события последних двух лет, внесшие столько горя и столько хаоса в еврейскую жизнь', несмотря на жесточайший 'экономический кризис', уже угрожающий голодной смертью десяткам тысяч, неисправимый ассимилятор и патриот сохраняет остатки оптимизма: '┘Так как гибель миллионной массы людей, хоть бы и евреев, особенно в нашем веке и в европейски благоустроенном государстве, допустить немыслимо, то нет сомнения, что и участь еврейства в России изменится к лучшему. Вопрос только во времени'. Долг всех еврейских общин - помочь продержаться в течение этого времени настоящим беднякам и отвадить разного рода тунеядцев-попрошаек. Далее рассматриваются и подвергаются критике, отвергаются три общих проекта, якобы способных радикально изменить 'положение, в котором в настоящее время находится злосчастное русское еврейство': религиозная реформа, возврат к неукоснительному соблюдению религиозной традиции, эмиграция. При этом Богров делает важное заявление, или, может быть, скорее, признание: 'В настоящий критический момент ┘ каждый из нас обязан высказать свое мнение и, без ложного стыда и мелкой щепетильности, должен отказаться от него, если ему докажут его безлогичность или, по меньшей мере, его непрактичность или несвоевременность. Точно так же и напротив: никто не заслуживает порицания или издевательства за те мнения, которые не вытекают из корыстных или тщеславных видов или из любви к искусству противоречия и пустого полемического задора. Вот почему решаемся и мы высказаться публично, полагая, что едва ли какой-нибудь честный собрат заподозрит нас в задних мыслях и побочных стремлениях'. Ни здесь, ни далее, в следующих выпусках 'Русского еврея', Богров собственному призыву к признанию былых ошибок, к своего рода покаянию впрямую не следует, но мы его, т. е. замаскированное покаяние, выследим и, в своем месте, покажем читателю. А здесь Богров призывает общины и отдельных лиц главные усилия и расходы обратить на молодое поколение, и в особенности - на его физическое развитие, 'на постепенное мускульное развитие грубой силы, ┘ разумеется, не на счет интеллекта, но и не относясь к физической силе с обычным у евреев пренебрежением, как к чему-то низменному'. Развивая эту мысль, Богров приводит аргумент с такими забавными деталями, что было бы жаль не поделиться ими с читателями, несмотря на пространность выписки: 'Большинство еврейской массы, особенно ортодоксальная, пуританская, набожная ее часть, полагающая, что все призвание еврея на земле заключается в стремлении к жизни загробной, для чего лучшим средством служит щепетильное исполнение всех мельчайших обрядностей ┘ , смотрит на физическую силу как на нечто грубое, человека благочестивого не достойное. Еврейско-обществен-ное мнение установилось в том смысле, что деликатным человеком величают только того еврея, у которого душа еле держится в хилом теле, который способен повалиться, как былинка, от малейшего дуновения ветра. Человек же, обладающий медвежьим здоровьем, исправным желудком и волчьим аппетитом, - это человек грубый, обжора. Первый долг 'истого' еврея - есть как-нибудь и что-нибудь, есть в обрез, не более того, сколько требуется для поддержания жизни, есть настолько, чтобы только не умереть с голода. В таком же духе установлено между евреями житейское приличие ┘ : еврей должен есть не торопясь, как бы нехотя, с продолжительными паузами между одной ложкой супа и другою; всю порцию поедать - верх неприличия, необходимо оставлять на тарелке хоть что-нибудь, как бы аппетит ни протестовал против подобного этикета'. Физическая слабость имеет прямым своим следствием печально известную еврейскую трусость, которая обнаружила себя так позорно при погромах. И Богров предлагает целый набор рекомендаций для избавления от слабости и трусости, главные среди которых - учреждение бесплатных гимнастических классов и общественные огороды, на которых молодежь приучалась бы к труду на земле. Можно ли усматривать в этом какую-либо связь с программой Духовно-библейского братства или, a fortiori, с идеалами сионизма или хотя бы протосионизма, 'Любви к Сиону' (Хиббат-Цион)? По-моему, никак нельзя. Физический труд, особенно земледельческий, входил как в воспитательный проект Хаскалы (во всяком случае - в России: Исаак-Бер Левинсон), так и в правительственные проекты (еврейские земледельческие колонии в Новороссии). Вдобавок речь об устройстве колонии шла, как упоминалось, уже в 'Записках еврея', которые писались без малого за двадцать лет до рождения Духовно-библейского братства (1881). Полемику же с Братством и подспудный отказ от собственных реформаторских увлечений, отразившихся в том же эпизоде 'Записок' и, странно сказать, четко предвосхитивших некоторые идеи основателя Братства Якова Гордина, находим 'под занавес', в последней из статей цикла. Радикальную реформу иудаизма Богров приравнивает к самоубийству. '┘Исключению подлежат не только второ- и третьестепенные ┘ постановления раввинизма, но и такие догматы иудаизма, которые, по букве Библии, составляют краеугольные камни израильского вероучения. Стоит только беспристрастным оком взглянуть на рекомендуемую иными реформу, чтобы недоумевающе пожать плечами, задав себе следующие разумные вопросы: если отрубить иудаизму и члены, и голову, то почему бы не выбросить и средину? Для чего в таком случае числиться евреем? Не для статистических ли поименных списков? Не для плачевных ли особенностей, порожденных одним еврейским происхождением? Наконец, не для того ли, чтобы вдобавок ко всем этим прелестям ┘ сделаться еще отрезанным ломтем и в собственном племени? ┘ Обрезывая догматику иудаизма с казового конца, перекраивая еврейскую религию из длиннополого кафтана в куцый плащ, захватывая своими ножницами и такой кардинальный догмат, как обрезание (тут - легко узнаваемый намек на Братство. - Ш. М.) и проч., наши радикалы отрезывают всякий доступ к себе громадной массе верующего еврейства. ┘ Зачем же это отречение от еврейства под видом реформы?'. И Богров настоятельно советует забыть о религиозной реформе совсем, потому что 'в наши дни' ничего, кроме раскола и смуты, она еврейству не принесет. Подробному разбору подвергается вопрос о возвращении еврейского народа в Землю Обетованную, который рассматривается вне рамок общей проблемы эмиграции. В самом общем и упрощенном виде ответ Богрова таков: народ не готов к возвращению, оно обернулось бы катастрофой, если бы, каким-то чудом, вдруг совершилось. И Богров набрасывает картину катастрофы, которую рисует ему разыгравшееся воображение. В следующем, 1884 году он напечатает повесть 'Маниак', упомянутую в отрывке из воспоминаний Шимона (Семена) Дубнова, приведенном в начале моего очерка; страничка в 'Русском еврее', продиктованная воображением, представляет собою как бы зерно или ядро этой повести, и мы к ней вернемся в свое время. Пока же хочу обратить внимание на интонации горячей и, по всей видимости, искренней взволнованности, нечастой у Богрова, с какою он подходит к этой, впрямую сионистской теме: 'Мы ┘ опасаемся, что найдутся такие недалекие или ┘ недобросовестные люди, которые постараются придать нашим словам характер какой-то преднамеренной злой иронии и еретической насмешки над самыми заветными надеждами несчастного, но тем более дорогого и близкого нашему сердцу племени. ┘ Все, что мы говорили и говорим, исходит из глубины сердца и составляет предмет наших размышлений в продолжение всей нашей жизни, жизни, в течение которой мы терпеливо несли на собственных плечах все специально племенные невзгоды, оскорбления и уничижения, как и материальные неудобства нашего происхождения, нисколько не думая, однако, ставить это себе в особенную заслугу┘ Кто братски, сознательно несет общую беду, тот не стал бы иронизировать над сострадальцами'. Я не могу предъявить прямых доказательств, но я убежден, что волнение, эмоциональная приподнятость, искренность (нельзя не добавить: в значительной мере обманчивая и самообманывающая) этих строк выросли из mea culpa радикального ассимилятора-утописта, столкнувшегося с кровавым погромным ответом на его неодолимую тягу к 'слиянию'. Но если Льва Леванду, или Леона Пинскера, или достаточно многих иных, менее именитых и знаменитых маскилов-просвещенцев такая же точно ситуация, в которой они оказались, привела к однозначному признанию прежних ошибок, Богров о собственных заблуждениях мало-мальски членораздельно так и не высказался, ограничился заверениями любви к своему народу-страдальцу. Судя по посмертной репутации Богрова эти заверения в еврейской среде сочувствия не нашли. Дурная слава 'отверженного от своего народа' (Дубнов) сохранялась за ним до тех пор, пока самый интерес к нему сохранял хоть какую-то злободневность. Но Богров-журналист, его впрямую, обнаженно публицистический посыл - лишь малая и не главная часть того, что от него осталось. Главное - это все же Богров-прозаик. Проза же его печаталась в 'Рассвете' почти бесперебойно. Когда писались эти рассказы и повести, гадать не имеет смысла, появились же все, за двумя исключениями, в 1879-1880. Единственное сочинение, о котором можно с некоторою вероятностью предположить, что оно печаталось по мере написания, - это роман 'Накипь века', публикация которого (с большими перерывами) растянулась на два года, до осени 1881, и осталась незаконченной, как, по всей видимости, и сам роман. Второе исключение - рассказ 'Мариама', опубликованный (с продолжениями) в 'Рассвете' в первой половине 1882 года, т. е. отчасти уже после выхода Богрова из редакции. 'Рассветная проза' представляет собою некое единство, пусть даже довольно рыхлое, которое целесообразно рассматривать в целом. В этот блок, кроме двух уже названных сочинений, входят следующие: 'Добрые вести (Уличная сценка)'. 'Рассвет', 1879, ? 10. 'Проклятый (Рассказ из недавнего прошлого)'. 'Рассвет', 1879, ??11 - 1880, ? 1. 'Перст Божий. Рассказ Н. М. Г.'. 'Рассвет', 1880, ? 8. 'Вампир (Из путевых воспоминаний)'. 'Рассвет', 1880, ?? 9 - 12. 'Кого винить? Рассказ М. О. Б.'. 'Рассвет', 1880, ?? 15 - 23. 'Ортодокс. Очерк с натуры'. 'Рассвет', 1880, ?? 28 - 36. 'Книжница (Рассказ очевидца)'. 'Рассвет', 1880, ??37, 38. Для полноты библиографической информации следует добавить, что самый первый отрывок из романа появился в том выпуске 'Рассвета', которым журнал и открылся (1879, ? 1), последний же - в ? 43 за 1881, а 'Мариама' - в ?? 1 - 4, 6, 9, 12, 14, 24 за 1882. В следующем году 'Мариама' была перепечатана ежемесячником 'Восход' (1883, ? 1 - 2, особое приложение). К приведенному списку я добавил бы еще чисто очерковые 'Заграничные впечатления (Путевые заметки из Австрии)': 'Рассвет', 1880, ?? 39 - 41, 43 - 45. Есть в идеологическом посыле этого путевого очерка детали, сближающие его с блоком 'рассветной прозы'. Во-первых, догадка о самоненавистничестве, на полстолетия предвосхитившая, или, по крайней мере, как-то предугадавшая знаменитую книгу Теодора Лессинга 'Der juedische Selbsthass' (1930): '┘Нам прожужжали все уши извращенностью, дрянностью, низменностью уровня еврейской морали и совести, заслуженностью исключительного положения русского еврейства и проч. и проч., прожужжали до того, что мы сами, в конце концов, начали сомневаться в самих себе и в человеческой нормальности нашей семитической психии'. Во-вторых, испытываемое каждым русским евреем нежелание, неготовность упоминать о своей расово-религиозной принадлежности, говоря сегодняшним языком - затабуированность самого слова 'еврей'. В-третьих, утверждение, что евреям в России живется далеко не так плохо, как нередко пишут о том на Западе. И наконец, вложенный в уста венского раввина и проповедника Адольфа Йеллинека призыв быть сдержаннее в обличениях 'родных братьев': незачем гладить их по головке, раз они того не заслуживают, 'но уж чересчур ерошить запутанную шевелюру тоже не приходится. Прежде вымойте, вымылите горемычную голову, расчешите ее медленно, осторожно, терпеливо, а потом уж ерошьте, сколько хотите'. Кажется, что с этим призывом Богров обращается к самому себе. И следует - в известной мере! - автопризыву, хотя недостатка в тягостных и злых картинках нет и здесь. Такая картинка - 'Добрые вести', скверный и, по существу, юдофобский анекдот: одно не столько действующее, сколько говорящее лицо рассказывает другому, давно не имевшему из дому вестей, о несчастьях, якобы на него обрушившихся. Зачем эта ложь? Лгун объясняет: 'Не замай, дурню, счастливого еврея, когда он 'на проходьке', т. е. на прогулке. В молодости автор этих строк слышал другой вариант того же анекдота, но с иной мотивировкой. Лгун сообщает о мнимых смертях, хлебая борщ, и, опростав тарелку, объявляет: 'Когда я ем холодный борщ, для меня все умерли, все!' 'Мой' вариант куда более человечен. И не потому только, что Богров спешит обобщить: 'Да, читатель! Не становись на дороге чванливого, кичащегося своим подозрительным, эфемерным счастьем еврея: он немилосердно тебя раздавит┘', но и потому, что оба персонажа у Богрова отвратительны, оба, не только мучитель, но и его жертва. Отвратительна их внешность, отвратительна бессмысленная, подлая жестокость одного и невероятная глупость второго. Боюсь, что перед нами самоненавистничество беспримесное и ничем не смягчаемое. Напротив, едва ли было бы допустимо относить к проявлениям самоненавистничества выпады против хасидизма и цаддикизма, традиционную топику Хаскалы во всех еврейских литературах Европы. На ней выстроен фабульно 'Проклятый' - история о том, как три друга, портные, лишившись заработка по милости четвертого портного, немца, который обосновался в их местечке, разыгрывают цаддика и его свиту, мороча своих легковерных единоверцев и наживаясь на их легковерии. Богров уточняет (правда, лукаво, в самых последних строках): дело происходило 'давно, в самый разгар польско-еврейского мракобесия, ┘ в доброе, старое время!'. Но фабула никогда не была сильной стороной Богрова. Вот и здесь, мнимые злоключения мнимого хазана (кантора), одержимого злым духом, проклинаемого мнимым чудотворцем-цаддиком, который чуть позже сам же и снимает свое проклятие, но только частично (голос, которого портняжка, он же псевдохазан, никогда не имел, к нему не возвращается), притянуты за уши, не внушают никакого доверия, и если рассказ, как его определяет сам автор, или, скорее, маленькая повесть по сегодняшним меркам читается не без удовольствия, так это благодаря новому, может быть, впервые обнаруживающему себя у Богрова качеству - снисходительности. Портные, переквалифицировавшиеся в проходимцев и шарлатанов, написаны без праведного разоблачительного ожесточения, а скорее даже с некоторым сочувствием (есть-пить всем хочется!) и, во всяком случае, с иронией, не чуждой добродушия. А это, как бывало всегда в русско-еврейской литературе, обостряло наблюдательность, углубляло взгляд и вело к появлению настоящих характеров, в противоположность однобоким, искусственным схемам, наследию еще XVIII века. Вот и здесь, каждый из трех приятелей - личность со своим характером и даже, в какой-то мере, со своими речевыми навыками. И не герои ли тянут за собою автора-рассказчика? Его язык, хотя и не освобождается полностью от ошибок и промахов, становится метче, гибче, даже афористичнее: 'Немцы в мире - что суслики в поле; где ни появятся они - там хоть трава не расти: все пожрут┘'. 'А немец шил, пошивал да наживался'. И банальный, до предела избитый мотив злой жены и смертельно боящегося ее мужа идет не во вред, а на пользу: все трое боятся, и все трое - по-разному, в зависимости от собственного характера. Так ни разу и не встретившись с грозными супругами героев, читатель, тем не менее, составляет себе о них довольно ясное представление, а это уже признак и доказательство известного уровня в литературном мастерстве. Вообще говоря, мне кажется, Богров-прозаик был способен на много большее по сравнению с тем, чего достиг, но, странным образом, не сумел реализовать своих возможностей. Не сумел? А может быть, не захотел, следуя своим убеждениям и темпераменту? Еще более сочувственный взгляд в патриархальное прошлое, оно же мракобесие по классическим меркам Хаскалы, находим в повести 'Ортодокс'. Тон задается с первых строк: на самом дне жизни русского еврейства есть 'светящиеся частицы', которые, если им доведется пробиться на поверхность, 'засверкают там яркими лучами ┘ И как потускнеет перед этими нравственно лучезарными самородными крупинками та мишурная пыль, которая окрашивает некоторые верхние слои еврейства суздальской, фальшивой позолотой! Последняя отражает только лучи чужого солнца, тогда как первые, сияя внутренним своим светом, озаряют все вокруг себя собственными, природными лучами!.. Одну из таких светлых крупинок знавал я в мои юные годы'. Здесь все существенно: и то, что в еврействе наличествует собственная 'нравственная лучезарность', и то, что она выше заемной, приносимой ассимиляциею, и то, наконец, что, хотя рассказ пойдет о прошлом, это прошлое не минуло, оно актуально. Главный персонаж, раби Рфоэль Нозир, т. е. Назорей, - по профессии писец, но главное его занятие - это исполнение добрых дел, заповедей, которые, однако, он понимает не вполне ортодоксально: 'Раби Рфоэль был в делах религиозного культа строг, как истый пуританин; тем не менее, где дело касалось спасения здоровья и имущества ближнего, там для него не существовало ни запретов, ни суровых религиозных уставов'. Богров и его герой несколько расширяют талмудическое правило, по которому спасение человеческой жизни выше и важнее всех заповедей, кроме запрета идолопоклонства, кровосмесительства и убийства. С другой стороны, раби Рфоэль способен поставить под угрозу свою жизнь (что так же строго запрещено Талмудом, как рисковать чужою жизнью) ради чисто формального ненарушения субботнего покоя. Автор-рассказчик объясняет: 'В иные моменты раби Рфоэль казался ярым, завзятым фанатиком, готовым обречь себя на всякие истязания и пытки, а иногда он становился вдруг крайним либералом, способным удивить самых свободомыслящих евреев. Бывали случаи, когда этот хилый и робкий человек выступал таким дерзким нахалом, что приводил в недоумение всех знавших его; иногда же, наоборот, он унижался до крайности, до невозможности. Все эти резкие перемены в одном и том же человеке не были следствием бесхарактерности или недомыслия; напротив, все эти контрасты вытекали из одного общего, неиссякаемого источника доброты и великой любви к ближнему'. И Рфоэль Нозир вытворяет удивительные с точки зрения здравого смысла и прописных истин вещи, вроде того, что отбирает у шайки воров украденный кошелек и возвращает владельцу, или требует закрыть шикарный, по провинциальным меркам, мануфактурный магазин ввиду приближения субботы (и в благодарность получает увесистую оплеуху), или обличает откупщика в его же доме, утверждая, что 'откуп - дело богопротивное, ┘ гнездо воровства, грабежа, беззакония, ┘ вертеп разврата и мошенничества'. Точно и метко называет Богров своего 'ортодокса' 'юродивым евреем', и можно не сомневаться, что авторская позиция имеет мало что общего с жизненными принципами 'юродивого'. Об этом впрямую, в самом тексте свидетельствуют полторы странички, посвященные воинственной, агрессивной нетерпимости 'старых времен', когда русское еврейство окружало себя 'непроницаемой китайской стеной, через которую не мог свободно пробиться ни один луч европейской культуры', а также, и в еще большей, пожалуй, мере, своего рода трактат об откупе, непосредственно предшествующий противооткупной инвективе раби Рфоэля. Уже в 'Записках еврея' Богров находил для откупной системы не только слова осуждения: служба по откупу, утверждал он, избавляла еврейское юношество от 'фанатической рутины, мешавшей всякому вольному движению к слиянию с русским элементом', от власти 'еврейского общественного мнения, существенно душившего всех действовавших и живших не по общепринятой программе'. В 'Ортодоксе' эти сравнительно осторожные утверждения поднимаются до панегирической ноты. 'Пусть тот, кому любо, примет мои слова за парадокс, пожалуй, за злую, едкую иронию, но я все же искренно, с неподдельною серьезностью готов утверждать, что откуп был одним из первых стимулов настоящего прогресса русско-еврейской культуры; что отцы-откупщики, косвенным образом, были главными двигателями этого прогресса, первыми педагогами значительной части пионеров еврейской интеллигенции'. Я не решаюсь процитировать полностью - это было бы слишком, непропорционально длинно. Я только хочу обратить внимание читателя на смелость Богрова: панегирик еврейскому откупщику, фигуре повсеместно, чуть ли не единодушно осуждаемой, а не то и проклинаемой, требовал немалой интеллектуальной отваги. Но, не решаясь цитировать полностью, не могу не привести еще нескольких строк, разъясняющих суть дела: 'Роль, разыгрываемая еврейско-откупными персонами, привлекала подражателей из среды молодого еврейского поколения. Таким образом зрело и крепло тяготение еврейской молодежи к русской грамоте, так что потом уже, когда законодательство распахнуло пред еврейством дверь храма науки, оказалось, что первый, труднейший шаг был сделан раньше┘ К великим целям образования и культуры еврейству старого времени приходилось протискиваться сквозь подворотню, пробираться по черному двору┘ Еврейство ли тут виновато?' Если и за всем тем автор-рассказчик, который в данном случае, вне всякого сомнения, совпадает с Григорием Богровым, восхищается своим 'ортодоксом' как несравненным и недосягаемым образцом моральной чистоты и силы, это может означать только одно: перемену позиции, или, точнее, важную поправку к прежней позиции, конец тотального разоблачительства, привлекшего к 'Запискам еврея' и его автору сердца многих тайных и явных недоброжелателей его племени. И потому, когда Богров оговаривается: 'Да сохранит меня Бог от преступного намерения оскорбить самолюбие интеллигентной части моей родной, искренно любимой нации', этому объяснению в любви верится больше, чем подобным же декларациям, увидевшим свет ранее. Рфоэль выписан убедительно, и убедительностью своею этот еврейский праведник обязан, в первую голову, собственной, так сказать, экстравагантности, экстраординарности, тому, что он - 'юродивый'. Поэтому самые удавшиеся эпизоды повести - контрастные, где праведник действует на фоне неправедного мира и вступает с ним в столкновение; лучший из них, на мой вкус, - ярмарка, с балаганами, пьяницами, жуликами и воровской шайкой. Если 'Ортодокс' позволяет судить о степенях удачи, то незаконченный роман 'Накипь века' неудачен весь; я ставлю эти два названия рядом лишь по причине определенного сходства посылов - за традиционными еврейскими ценностями признается известное значение, безудержная ассимиляция отвергается и осмеивается. Богатый провинциальный делец Лазарь Иванович (!) Димент запутался в собственных темных делах, все его доходы уходят на взятки, он живет в долг. Дочь и сын кончили гимназию и продолжают учение в столице, еще одна дочь ничему не училась, это цельная натура, любимица бабушки, единственной хранительницы еврейского духа в семье. Столичный сын - циник и хищник, прикрывающийся громкими словами о служении человечеству. Он ненавидит евреев, верность своему народу объявляет пережитком, равно как и почтение к родителям, любовь и т.д. Он участвует в каком-то революционном 'кружке' (народническом? социалистическом?). Сестра, 'стриженая', несравненно лучше брата, но полностью под его пагубным влиянием. Оба приезжают на каникулы в родительский дом, надеясь выманить еще денег у отца. Но сын, по глупости и высокомерию, ведет себя слишком вольно с 'чинушей', от которого зависит его отец, тот подает векселя отца ко взысканию - и Лазарь Иванович разорен, надежда на его щедрость испарилась. Тогда сын, для пополнения опустевшего кошелька, соблазняет супругу аптекаря, даму весьма передовых взглядов и едва ли не клинической глупости, и, в сопровождении сестры и аптекарши, возвращается в столицу, где его арестуют, видимо - по делу о 'кружке'. В провинции под арест попадает наставник младшей дочери Лазаря Ивановича; он также был причастен к петербургскому 'кружку', но давно порвал с ним, предпочтя конкретные интересы родного народа туманным перспективам счастливого будущего всего человечества. На этом роман обрывается. Уже из краткого, чтобы не сказать 'кратчайшего', пересказа очевидно, что 'Накипь века' - несколько запоздалый, через двадцать без малого лет после публикации 'Отцов и детей', вариант антинигилистического романа. В качестве такового он, как мне видится, не представляет ни малейшего интереса со своими заемными фабульными ходами и картонными персонажами. Чего стоит одна аптекарша, безошибочно напоминающая тургеневскую Кукшину! Но в качестве еврейского варианта некоторыми своими деталями он внимания все же заслуживает. Прежде всего или, пожалуй, даже исключительно деталями публицистического свойства. Вот, например, идет рассуждение на тему неприкаянности молодого поколения ассимилированных евреев или, по крайней мере, части его. Такого сорта люди, как брат и сестра Димент, - 'беспочвенники': 'Еврейство их чурается, точно так же, как они чураются еврейства. ┘ От своих они отстали, а к чужим не пристали. Что им делать с собою? Где приютиться? К кому прилепиться?' До сих пор всё довольно плоско, но ответ, который находит Богров, неожидан: оказывается, обескорененных евреев готовы принять в объятия враги существующего порядка вещей, т. е. революционеры, 'такие же недовольные, как они сами, хотя и по иным совсем причинам. Новая среда, не признавая национальной, религиозной или сословной розни, принимает их братски. 'Вот с кем можно вполне слиться!' - восторженно восклицают единичные еврейские юноши, дошедшие до отчаяния от прижимающих их к стенке жизненных неудовлетворенных запросов, и, на первых порах, действительно сливаются. Но это слияние преходящее, моментальное, до первого разубеждения, до первого разочарования. Охлаждение наступает быстро, и тогда связь безвозвратно порвана'. Богров был настроен слишком радужно: еврейская молодежь к российской революции отнюдь не охладела, ни чуть позже, когда обнаружилось, что народовольцы приветствуют погромы как проявление народной самодеятельности, ни много позже. Кажется, он и сам понял свое заблуждение. Через два года после того, как приведенные выше слова появились в 'Рассвете', он писал: '┘То обстоятельство, правда, весьма прискорбное для еврейства, что с возникновением в России так называемого нигилистического учения нашлись такие еврейские единицы, которые, махнув рукой на свое племя и его благо, на свои родные семьи, на своих друзей-евреев, прилеплялись к заблуждавшимся молодым людям из христиан, можно объяснить тем, что приставали они единственно потому только, что там их принимали, без сомнения, искренно, как братьев. Последнее обстоятельство так льстит самолюбию еврея, что ради этого он готов поставить на карту свою карьеру, свою будущность, даже свою жизнь'. Какое уж тут может быть 'разочарование' или 'охлаждение'? И еще одно замечание напрашивается в связи с этим и поныне щекотливым сюжетом. В те же годы, что публиковалась в 'Рассвете' 'Накипь века', сотрудничал в журнале Николай Минский, в ту пору еще не родоначальник декаденства в русской поэзии, а русско-еврейский публицист, печатавшийся под псевдонимом Норд-Вест. Полемизируя с Сувориным, ставившим евреям в вину, среди прочего, и то, что они отравляют русскую молодежь революционным ядом, Минский оборачивал против врага его же собственное оружие: не мы отравляем вашу молодежь, а вы - нашу. 'Отравляем' или 'одушевляем' - это вопрос вкуса, вопрос такта, вопрос политических убеждений и взглядов на историю, но что касалось взаимовлияния, Минский был безусловно прав, и в правоте своей был близок к Богрову, хотя и выражалось это несколько парадоксально. Признавая пагубность стремительной и поверхностной ассимиляции, признавая ценность за национальными устремлениями и даже за национальною культурой, Богров, в то же время, нимало не стесняясь противоречием, остается непримиримым, ожесточенным врагом всего старого уклада в целом и во всех его деталях, иначе говоря - всего того, с чем как-то находил общий язык в 'Ортодоксе'. Когда в пассаже 'от автора' заходит речь о благотворных переменах в России (очевидным образом имеется в виду 'оттепель' после смерти Николая Первого), которые затронули и евреев, Богров вдруг разражается инвективою: 'Между неофитами европейской культуры и представителями мракобесия старых времен возникла самая резкая рознь. Но как ни была ожесточенна эта борьба тьмы со светом, первой все-таки не удалось законопатить широкие бреши, пробитые веком в твердынях окаменелого, застывшего фанатизма и суеверия'. Это неулаженное, непримиренное противоречие ощутимо у Богрова до конца его жизни и писательства. Оставшиеся тексты из того же блока 'рассветной прозы' проигрывают уже рассмотренным, даже не сложившемуся (выражаясь самым щадящим образом) роману. За громким, столь прижившимся в русской литературе названием 'Кого винить?' следует стократно известная история 'падшей женщины', неудачно пытавшейся покончить с собою. Ее еврейское происхождение и крещение ничего любопытного в эту, увы! банальную историю не приносит. И на риторический вопрос, вынесенный в заголовок и повторяющийся в заключительной фразе, ответа, конечно же, нет. 'Перст Божий' в одноименном рассказе поражает самозванца, выдающего себя за немца, лютеранина и врача, а на самом деле он польский еврей, шарлатан и беглый муж, не желающий содержать жену и двоих детей. Любопытен лишь крохотный, но многозначительный штрих: 'Оказалось, что этот выходец из Польши занимался на чужбине не совсем благовидными делами, эксплуатируя сердобольное заграничное еврейское общество, слепо верующее во всякие небылицы, распространяемые беглыми из России о своем отечестве, где, якобы, они преследуются как невинные жертвы вопиющей несправедливости'. Благонамеренное, патриотическое свидетельство о том, что 'у нас' с евреями все не так уж плохо и не надо верить клевете злонамеренных? Выходит, что так, и это нам слишком хорошо знакомо по недоброй памяти советским временам, и это скверно пахнет, чтобы не сказать смердит. Почти в одной плоскости с патриотическим свидетельством лежит еще одна, на этот раз, к сожалению, достойная пристального внимания декларация. 'Вампир' - рассказ о несостоявшемся кровавом навете, а не состоялся он по благоразумию и честности уездного исправника, который знал, кто таков ночной посетитель, которого 'накрыли' в чужом помещении, с чужим младенцем на руках: то был лунатик, которого, по оплошности, не заперли на ночь снаружи. Исправник внушает автору-рассказчику: '┘Вы непременно должны написать, где следует, что ┘ если все ваши евреи жалуются на властей, то они своего положения не понимают. Они держатся только нами, власть имеющими: дайте волю невежеству, да разным Метелкиным, этим безжалостным хорькам, и евреев передушили бы, как кур'. Метелкин - это тамошний, местный корреспондент столичной газеты, которого исправник многократно отрекомендовывает 'либералом' и который уже успел тиснуть подробный отчет об 'ужасном происшествии', с призывом к 'наивным людям' понять, наконец, что обвинения евреев в кровопийстве - не предрассудок и не выдумка. Союз самозванных 'либералов' с народом (можно называть его чернью, серым народом или, как здесь, абстрактным словом 'невежество', это дела не изменит), такой союз смертельно опасен, и только власти способны от него оборонить. Не то же ли заключение mutatis mutandis вынесла из опыта революции 1905 года та часть российской интеллигенции, чьи взгляды выразил сборник 'Вехи'? Несправедливо было бы не отдать должное чутью Богрова. А не сказать ли лучше - прозорливости? Вся 'рассветная проза', кроме 'Мариамы', печаталась до начала Великих погромов 1881-1882. Тем любопытнее, что за полгода до погромной волны Богров выступил с рассказом на эту тему, которой только предстояло ворваться в русско-еврейскую жизнь и литературу. В очередной раз не станем гадать, когда рассказ был написан, но события, в нем изображаемые, погром в Одессе, относятся к 1871. Это был первый российский погром в Новое время, как бы матрица, стереотип всех будущих погромов, с одним, но чрезвычайно существенным различием: человеческих жертв и садистских искалечений не было. Но все остальное было, в том числе и изнасилования. Изнасилование и служит фабульным стержнем рассказа 'Книжница': жертва его, семнадцатилетняя девушка, считает себя 'опозоренной и оскверненной' навеки и расторгает помолвку. 'Жених на коленях просил, умолял, плакал┘ ничего не поделаешь! Говорит: 'Жизнь мою без колебания за тебя отдам, а женою твоею не буду. Я пойду в люди служить, буду горничной, судомойкой, чем угодно буду, а тебя связать по рукам и ногам не хочу! Ни-ни!' И рассказывающий историю обесчещенной девушки неожиданно заключает: 'Клара по бабьему капризу сама отталкивает от себя свое счастье. Фанаберья она, вот что! Известное дело - дура набитая! Книжница!!'. Несмотря на психологически эффектную концовку рассказ не вытягивает на подлинно трагическую высоту, которую хотелось бы найти в этом случае - как бы при открытии страшной и великой линии, на которой стоит и 'Во граде истребления' Хаима Нахмана Бялика ('Сказание о погроме' в русском переводе Жаботинского). Но рядом с 'Книжницей' должна быть поставлена 'Мариама', и в этом сопоставлении первая крупно выигрывает. Что 'Мариама' была напечатана редакцией 'Рассвета' как прямой отклик на погромную кампанию, открывшуюся в апреле 1881, явствует из нескольких вступительных слов: 'История еврейства, в продолжении тысячелетних его скитаний и кочеваний по всем странам мира, изобилует такими кровавыми эпизодами, такими мрачными общими и частными картинами былого, что настоящее и ближайшее будущее, в каком грозном виде они ни представлялись бы в действительности или в возбужденном воображении, едва ли в состоянии поколебать тот дух национального стоицизма, который так характеристичен в цепкой живучести иудейского народа'. Подобный 'эпизод', а, говоря проще, погром, случившийся, по прямому и особо выделенному сообщению автора, в 1637, т. е. за одиннадцать лет до начала хмельничины, т. е. как раз или почти в ту пору, к которой относится действие 'Еврейского манускрипта', составил фабулу 'Мариамы'. Ко всем слабостям исторического повествования у Богрова, отмеченным при попытке разбора романа, добавляются романтические штампы, совсем, казалось бы, несвоевременные, в манере, скорее всего, Вальтера Скотта: немыслимая красавица-еврейка, кончающая с собою, чтобы избежать бесчестья, верный слуга, тайно влюбленный в молодую госпожу и погибающий с нею вместе, и т.п. Повторю: рядом с этим набором штампов приземленное, сероватое повествование 'Книжницы' производит благоприятное впечатление. Но другая спутница 'Мариамы' - маленькая повесть 'Мэри': они были напечатаны вместе, в тех же номерах ежемесячника 'Восход', под общей, объединяющей 'шапкою' - 'Былое', и с извещением, что 'Мариама' - перепечатка из 'Рассвета'. В 'Восходе' 'Восход', самый долговечный и многие годы единственный русско-еврейский периодический печатный орган, выходил в Петербурге с 1881 по 1906. С 1882 печаталось также еженедельное прибавление 'Недельная хроника Восхода', где, напомним, появилось письмо Богрова о выходе из редакции 'Рассвета'. В 'Восходе' Богров в первый и последний раз облек в художественный вымысел свои думы о погромах 1881-1882 годов. Как горьки были эти думы! И как ничего общего не имели с былым - вопреки 'шапке'! Фабула 'Мэри' укладывается в несколько слов: молодая еврейка из ассимилированной, просвещенной семьи любит русского чиновника и готовится принять крещение и выйти замуж, но погром образумливает ее. Она сама рассказывает свою историю. Отец Мэри, 'городовой врач', никаких связей с еврейским обществом своего города где-то в черте оседлости не поддерживал и к 'большинству населения', т. е. к христианам, испытывал куда больше симпатии, чем к своим единоверцам. Но если речь заходила о перемене веры, он говорил Мэри и ее брату: 'Нет, дети, этого пока еще делать не следует. Как я отношусь к подобного рода метафизическим вопросам, вы ведь хорошо знаете; знаете также и то, что я считаю верхом неблагоразумия жертвовать своими сердечными влечениями или жизненными задачами без глубоких убеждений, из-за какого-то донкихотства, даже вероисповедного; но в настоящий момент, в данном случае, было бы крайне неделикатно, наконец, преждевременно отставать от тех людей, к которым, с формальной стороны, причисляемся и мы. Нечестно выгораживать себя из прочих в такое время┘ Дождемся лучших для евреев дней, и тогда┘ По крайней мере, никто не посмеет обвинять нас в своекорыстии, в продажности за личные земные блага'. Эта публичная 'декларация принципов' полностью совпадает с тем, что было сказано четыре с лишним года назад в частном письме Богрова к Леванде, которое я подробно цитировал в конце первого раздела моего очерка. Отсюда следует, что Мэри, ее семья, внутренний слом, этой семьею переживаемый, - не такая же 'изящная словесность', беллетристика, как, скажем, 'Вампир' или даже 'Книжница' и 'Мариама', но прямая и адекватная авторская реакция на изображаемые события. За два дня до назначенного срока крещения, которое Мэри готовилась принять вместе с братом, а затем и отец, предполагалось, последует за своими детьми, в городе разражается погром, 'зверство невероятное, невообразимое', 'поход сильного против слабого'. Толпа 'низшего класса', вне зависимости от пола, отзывается единодушно: 'Хоть бы одно слово сострадания, хоть бы малейший намек на сочувствие, напротив, со всех сторон одни оскорбительные насмешки, унизительные клички, злорадство, гиканье, хохот и страшные угрозы против всех жидов┘'. Но, вспоминает Мэри, 'более всего меня возмущало то, что одинаково злорадствовали и бушующая сволочь, и обладатели щегольских карет, во множестве тут же присутствовавшие и принадлежавшие к числу хороших моих знакомых'. В числе последних оказывается и жених Мэри: щегольски одетый, 'небрежно прислонившись к дверцам одной из наиболее шикарных карет, ┘ он поминутно окидывал взорами широкое поле неистовства, саркастически злобно улыбаясь'. И если до того дня всепоглощающая любовь к жениху была для Мэри путем к 'словам веры и любви Евангелия', то теперь она спрашивает себя: 'Тот ли этот редкий человек, который впервые озарил меня светочем великой идеи христианской любви? Тот ли, который так красноречиво убеждал меня и убедил, что все величие истинной веры состоит всего в трех словах: 'люби своего ближнего'?. Первым принимает решение старый врач: он отказывается креститься. Сын укоризненно спрашивает его: 'Разве ты не последуешь за нами?' - 'Теперь┘ после сегодняшнего┘ нет, не хочу┘ не хочу я в ту среду. В гостях хорошо, может быть, но дома лучше. Жидом я родился, умру же я человеком┘ Это мой протест'. Протест, возможно, не самый энергичный, а впрочем много ли было реальных возможностей у старика? Вспомним горчайшее заклинание из 'Записок еврея': 'Не родись евреем'. Рождение - в руках судьбы, но сознательный выбор - в руках человека. Не на известнейшие ли в еврейской традиции слова рабби Акивы из талмудического трактата 'Пиркей Авот' 'Все предопределено, свобода же дана' намекает доктор, а вместе с ним и Богров? Тот же выбор делает и Мэри, но объясняет его и по-иному, и менее лаконично: '┘Я намеревалась оставить свое племя не ради вас, не ради вашей любви только; я с самого детства срослась душою с христианским обществом, все мои симпатии влекли меня к моим сверстницам-христианкам, к моим подругам. С еврейскою молодежью я ничего общего не имела и иметь не желала. Я знала, что еврейское общество ненавидит нашу вольнодумную семью. Не встреться я с вами, не полюби я вас, я все-таки раньше или позже перешла бы в христианство, потому что пред великой идеей любви к ближнему я всегда благоговела; но те, в том числе и вы, к которым я желала прилепиться всеми силами своей души, доказали мне сегодня, что┘ как бы это выразить?.. что для того, чтобы ужиться с вами, надобно быть не простым смертным, а именно божественным спасителем, надобно сознательно принести себя в жертву┘'. Сбивчивость объяснения в какой-то мере оправдывается взволнованностью монолога, а с другой стороны - иронией. Но смысл - тот же: пассивный протест. Любопытно, что молодость, в отличие от старости, не исключала и активную форму протеста, но непримиримо враждебная атмосфера действует отрезвляюще: 'Сознаюсь, я сама возмущалась растерянностью с виду сильных евреев пред подростками или мертвецки пьяным мужичьем. Эта очевидная трусость евреев удивляла меня тогда, но теперь я, напротив, радуюсь за евреев и их тактичность: при той беспомощности евреев, при том общем недоброжелательстве и равнодушии, какие встречали они со стороны власть имеющих людей, всякий энергический отпор, всякая личная оборона, допускаемая законом, увеличили бы только беду, и единичные насилия могли бы перейти в поголовную резню и избиение┘'. Если мерить эту трезвость меркою сегодняшнего дня, она очень легко может обернуться и подлостью, но в годы Великих погромов и позже между лидерами еврейства разных масштабов, местными и общероссийскими, не было согласия, что разумнее, предпочтительнее, полезнее, наконец: организовывать самооборону или полагаться на защиту властей, какою бы ненадежною она столь часто ни оказывалась. Трезвость Мэри - зеркало этих разногласий. Но есть две фразы в объяснении Мэри с женихом, от которого она отказывается, фразы, рискующие пройти незамеченными, ускользнуть от внимания читателя: 'Я остаюсь, говорю вам, остаюсь навсегда жидовкой. Я полюбила, сегодня полюбила я свое несчастное племя!'. Между тем, в них-то и заключена суть ее решения, суть выбора: отказ от чужого, от слияния с чужим, от ассимиляции, возвращение к своему. Можно найти немало примеров и в жизни, - в наблюдениях социальных психологов, - и в литературе, примеров того, как общее бедствие сплачивает рыхлую или разрыхлившуюся прежде группу. Я бы хотел привести только одну параллель, из романа Василия Гроссмана 'Жизнь и судьба', где пожилая женщина-врач, давным-давно забывшая о том, что она еврейка, совершенно случайно попадает в эшелон, который идет в лагерь уничтожения, и там, в неимоверной скученности вагона для скота, и позже, в 'предбаннике' газовой камеры, не столько осознает, сколько впрямую, непосредственно ощущает свою неотторжимую принадлежность к еврейскому народу, к 'телу народа', как выразился Гроссман. Но если еврейке из романа Гроссмана остается только выйти дымом из трубы крематория, то Мэри, ощутив себя еврейкой, способна и на следующий шаг: 'Мы с братом целые дни проводим с еврейскою молодежью. К нам охотно пристают. Мы затеваем колонизацию там, где судьба нам укажет'. Где начнет, или, точнее, попытается начать Мэри новую жизнь в окружении новых друзей, неизвестно - колонизационные проекты в ответ на погромы появились во множестве, - но что жизнь эта видится ей своею, еврейской, а не чужою, сомнений не остается. Если бы 'Мэри' оказалась последним словом Богрова в художественной прозе, как было бы хорошо! Тогда Григорий Богров прошел бы параллельный двум первым отцам-основателям путь, от ассимиляторства до национализма, ассимиляторства, в его случае, безудержного и национализма вполне понятного и оправданного. К тому же и чисто литературно повесть была бы счастливым финалом: она хорошо выстроена, неплохо написана, а в картинах погромного буйства поднимается и до настоящего мастерства, рожденного, как мне представляется, силою гнева. Но, увы, на другой год (1884) Богров напечатал в первых пяти книжках 'Восхода' повесть 'Маниак' (в авторском понимании - 'рассказ'), с подзаголовком: 'Небывалый случай из жизни молодого психиатра'. Ту самую, о которой, напомню, Дубнов заметил походя, что она отмечена следами старческого маразма. Маразм или нет, но более неудачного слова 'под занавес' и представить себе нелегко. Молодой человек, от имени которого идет повествование, закончив учение в университете, приезжает повидаться к сестре. Он знакомится с кладбищенским сторожем и его дочерью, которые, оба, страдают галлюцинациями (их регулярно навещают души умерших), да и психика начинающего психиатра оставляет желать лучшего, в чем он и отдает себе отчет. Как-то ночью его будит дочь сторожа и чуть не силой тащит на кладбище, уверяя, что пришел Мессия и мертвые восстали из могил. И правда, на месте могильных камней стояли повсюду призраки в белых саванах, а среди них разгуливал некий великан в молитвенной шали (талите), распевавший псалмы. Великан, он же, как извещает девушка, Мессия, сокрушительным ударом кулака лишает рассказчика сознания. В дальнейшем выясняется, что это был городской сумасшедший (еще один маниак!), который помешался на том, что Бог повелел ему целыми днями подражать звуку ритуального рога (шофара), созывая избранный народ навстречу Мессии. Он взломал склад с бельем по соседству, перетащил все, что смог, на кладбище и обернул, укутал надгробья, после чего упустил из виду, что это дело его же рук, и бросился к сторожу с великим известием о воскресении мертвых. Полиция пытается поймать взломщика, но он исчезает бесследно, вместо него за решетку, в качестве сообщника, попадает старик-сторож, который через несколько дней и умирает, его дочь 'окончательно помешалась и сдана в больницу для умалишенных', о себе же рассказчик сообщает: 'Маниак окончательно рехнулся┘ Около года я промучился в желтом доме┘ Во все время моей страшной болезни я был во власти разных мессианских галлюцинаций, из числа которых припоминаю теперь только беспорядочные, непоследовательные отрывки'. Эти отрывки составляют две трети повести, а пересказанная мною выше 'рамка', в которую они вмонтированы, - одну треть. Уже рамка читается с некоторым напряжением: она непомерно длинна и неправдоподобна. Но 'мессианские галлюцинации' - это, действительно, хаос, продираться через который чрезвычайно утомительно, в частности, а может быть, и в особенности - из-за повторов, которые не могут не раздражать даже самого покладистого читателя. Возникает впечатление не умышленного беспорядка, отражающего разброд в больной голове, но обыкновенного неумения выстроить, организовать материал, впечатление композиционной беспомощности. Выражение 'мессианские галлюцинации' подсказывает, что содержание маниакального бреда - это будущее еврейского народа на древней родине, иначе говоря, идеи палестинофильства (протосионизма), как они выглядели назавтра после Великих погромов. Суть отношения Богрова к этим идеям была, как упоминалось, выражена в статье 'Община и порядок', которая появилась (в 'Русском еврее') годом раньше 'Маниака'. Исходя из того, что народ не готов к возвращению и к самостоятельной государственности ни физически, ни духовно, Богров предрекал катастрофу, если бы чудо возвращения вдруг совершилось. Теперь, в безумных видениях маниака, которому мнится, будто весь еврейский народ со всего света вновь водворен в Палестине, он эту катастрофу расписывает детально. Установится причудливая смесь анархии с теократией, с 'владычеством цадиков, хасидов, раввинов и всех их прихвостней', 'теперь капиталисты лебезят перед цадиками, ┘ теперь все гешефты, все финансовые наиболее выгодные комбинации зависят от благоволения и соизволения религиозных светил, забравших в свои ежовые рукавицы всю народную массу. Капиталисты - народ опытный, практичный: они с прежних времен научились чтить силу и гибко гнуться туда, где выгоднее, прибыльнее'. Тем не менее, в некоем подобии всенародного собрания 'главные запевалы денежной буржуазии, бывшие в свое время, так сказать, красой русского еврейства', занимают самое почетное место, близ самой трибуны, а самое скверное, самое незавидное отведено интеллигенции, за то что она была равнодушна к нуждам народа. Все бы ничего, все можно было бы как-то примирить, если бы походя не было скомпрометировано или, во всяком случае, поставлено под сомнение само представление о народе: '┘Видишь? - миллионная толпа. Это слеповерующая, суеверная и трусливая чернь. ┘ Не видишь разве, как невежественная чернь, науськиваемая ортодоксами, ┘ третирует нашу жалкую интеллигенцию, как ее осадили в самый хвост народного скопища?'. Но если миллионная масса - не народ, а всего лишь толпа или еще того хуже, чернь, то, может быть, интеллигенция не так уж и неправа в своем равнодушии? И не теряют ли смысла объяснения в любви к народу в устах одного из этой интеллигенции - Григория Богрова? Не имеет смысла разбирать пункт за пунктом все, что происходит и говорится в 'народном собрании'. Отчасти, эти пункты, нам уже известны - например, оценка писателем еврейского 'духовенства' или 'плутократии', отчасти переступают границы разумного и хоть мало-мальски правдоподобного: толпа линчует неугодного ей оратора; высказывается убеждение, будто 'с нашим народом справиться можно только дерзостью и нахальством'. Вместо такого разбора, который был бы, к тому же, смертельно скучен, обратимся к своего рода итогам образумившегося маниака. Вот к чему он приходит, 'радикально исцелившись не только физически, но и умственно': Израильский народ будет терпеливо отстаивать свое существование до тех пор, пока не воскреснет к 'новой политически самостоятельной жизни правоспособного, здорового, сильного и разумного народного организма. С этой стороны горячая вера евреев в пришествие Мессии естественна и похвальна, теплые молитвы, возносимые ими к своему разгневанному Иегове, в этом смысле умилительны, трогательны, даже поэтичны, но┘' Но молитва, понимаемая буквально, молитва о том, чтобы оказаться в Земле Обетованной уже в будущем году, не имеет никакого смысла! 'В будущем году? Уже? В Иерусалиме? В качестве кого же мы можем очутиться там? Простого ли туриста или народа-собственника, возвратившегося в свое отечество после долговечной ссылки?'. Следуют многократно высказывавшиеся Богровым мысли о том, что для подготовки народа нужны неисчислимые годы совершенно иной жизни, нежели та, которую евреи влачат теперь, нужно избавиться от многих привычек, обычаев, повадок, нужна религиозная реформа, нужен не только Мессия, но 'тысячи, сотни тысяч ┘ святых народных руководителей'. Каждый способен судить сам, в какой мере оказался Богров провидцем. Но намного более любопытным представляется мне другой, хотя и смежный вопрос: не слишком ли сурово было его даже не обличение, а бичевание российского еврейства? Вслушаемся в самую последнюю страницу 'Маниака': '┘Наше русское еврейство с его житейскою бестактностью и неумением обходиться без посторонней помощи, с его узким эгоизмом и волчьей разрозненностью, с его мелочным тщеславием, с его национальною заносчивостью, с его неуважением к тяжелому физическому труду, с его изуродованными традиционными обычаями, с его тупым благоговением перед силою богатства, ┘ наше польско-русское еврейство в том виде, в каком оно представилось мне в бреду моих галлюцинаций, не доросло еще до роли освобожденного и годного к самостоятельной жизни народа...'. И хотя он прибавляет: 'А впрочем, быть может, я ошибаюсь, преувеличиваю. Мало ли что пригрезится маниаку в его диких галлюцинациях! Дай Бог, чтобы я ошибался!' - пустота, сугубая условность этой оговорки не вызывает сомнений. Последним словом еврейского писателя Богрова осталось тотальное обвинение, не смягченное ни единым светлым пятнышком, ни единым теплым словом. Он как будто забыл возвещенное Исайей (40:1): 'Утешайте, утешайте народ Мой!' ИТОГИ?'Утешайте, утешайте народ Мой!' - эти слова звучат с синагогальных амвонов в богослужении первой субботы после скорбного праздника Девятого Ава, справляемого в память о многих бедствиях в еврейской истории, включая гибель Первого и Второго храмов и изгнание из Испании. Это Сам Всевышний призывает утешать Его избранный народ: на смену гневу и карам пришло сострадание.Но как раз даром сострадания Григорий Богров наделен не был. В отличие от двух первых отцов-основателей, которые, особенно Леванда, могли сердиться на своих 'братьев' не менее яростно, могли 'обличать' их не менее ожесточенно, но чуть ли не в следующий миг остывали, отходили сердцем, утешали пониманием, сочувствием, ласковою улыбкой, иначе говоря, той самой 'любовью к своему народу', которую так часто и охотно декларировал Богров и которой, по моему крайнему убеждению, просто-напросто не знал. Прежде всего, по той причине, что, опять-таки в отличие от Рабиновича и Леванды, не ощущал себя его органическою, неотъемлемою частью и даже, в известной мере, противопоставлял себя ему (чего стоит хотя бы физиологическая, я бы сказал, неприязнь к типично еврейской наружности). Это тотальное неприятие всего еврейского особенно бросается в глаза по контрасту даже не с русско-еврейской литературой (современной Богрову или во всем ее хронологическом объеме, безразлично), а с литературой на идише, с ее 'звездою' самой первой величины, с Шолом-Алейхемом. Отсюда, от всеохватной постылости, уже всего шаг до прямого самоотрицания, самоненавистничества. Несмотря на позднее крещение, принятое, по утверждению Цинберга (может быть, читатель-другой и не забыл), 'по семейным обстоятельствам', Богров этого шага не сделал. В доказательство приведу отрывок из письма Бориса Пастернака, поэта и Нобелевского лауреата, впервые обнародованного в 1986 году, в ученом журнале 'Известия Академии Наук СССР' и с тех пор неоднократно перепечатывавшегося в разных, в том числе массовых изданиях, т. е. сегодня широко известного; письмо адресовано Максиму Горькому и датировано седьмым января 1928: 'Мне, с моим местом рождения, с обстановкою детства, с моей любовью, задатками и влеченьями, не следовало рождаться евреем. Реально от такой перемены ничего бы для меня не изменилось. От этого меня бы не прибыло, как не было бы мне и убыли. Но тогда какую бы я дал себе волю! Ведь не только в увлекательной, срывающей с места жизни языка я сам, с роковой преднамеренностью вечно урезываю свою роль и долю. Ведь я ограничиваю себя во всем. Разве почти до неподвижности доведенная сдержанность моя среди общества, живущего в революцию, не внушена тем же фактом? Ведь писали же Вы в свое время об идиотствах, допускавшихся при изъятьях церковных ценностей, и глубоко были правы. А ведь этими изъятьями кишит наша действительность на каждом шагу, и не бывает случая, когда бы моя свобода в теперешнем окружении не казалась мне ┘ неудобной, потому что все пристрастья и предубежденья русского свойственны и мне. Веянья антисемитизма меня миновали, и я их никогда не знал. Я только жалуюсь на вынужденные пути, которые постоянно накладываю на себя я сам, по 'доброй', но зато и проклятой же воле!' Отрывок с редкостной, на мой взгляд, убедительностью сопоставляется с приводившейся обширной цитатой из 'Записок еврея', где ударною фразою служит восклицание 'не родись евреем!' То, что у Богрова было сарказмом, риторическим ходом, эффектной гиперболой, у Пастернака приобретает прямой смысл. Русский интеллигент во втором поколении, он не имеет с евреями ничего общего, не испытывает к ним ни малейшей симпатии, да еще несет бремя стыда за еврейские проступки против русского православного люда, вроде бестактного участия евреев в изъятии церковных ценностей. Результат: скованность и в творчестве, в поэзии, и 'среди общества', хотя трудно представить себе, как 'пристрастья и предубежденья русского', т. е. в заданном контексте, по всей очевидности, антисемитизм, могли найти себе общественное применение в России конца двадцатых годов, родись даже Пастернак чистопороднейшим русаком. И все же еврейское самоненавистничество Пастернака не осталось деталью частной, не предназначавшейся для посторонних глаз переписки: он 'свел счеты с еврейством' (его собственное выражение из письма к двоюродной сестре, Ольге Фрейденберг от 13 октября 1946 года, также не раз печатавшегося) и публично, в 'Докторе Живаго', где устами выкреста взывает к бывшим его единоверцам и единоплеменникам: перестаньте существовать, 'разойдитесь', вы препятствуете пришествию Царства Божия (Том I, часть 4, гл. 12). При несопоставимости дарований и места в искусстве слова, Пастернак связан с Григорием Богровым напрямую: он завершает линию, начатую автором 'Записок еврея'. И не он один. О том же менее эмоционально, зато гораздо более подробно толкует, к примеру, поэт Давид Самойлов в напечатанных посмертно мемуарах: ассимиляция - не только единственный и неизбежный, но и единственно естественный путь еврея в 'лоне' русской интеллигенции, ассимиляция полнейшая, с непременным православием в перспективе, только вот торопиться в церковь еврею ни к чему. Делались декларации, и никак с религией не сопряженные, но в высшей мере решительные и непримиримые: ухожу - и всё тут! И будьте вы все неладны с вашей затхлой, ничтожной, не ведающей ни простора, ни размаха, ни просто свежего воздуха жизнью! Я покидаюЭто из знаменитого в свое время стихотворения Эдуарда Багрицкого 'Происхождение'. Все в еврейском бытии и быте ему невыносимо мерзко, и в этом своем отвращении революционер-большевик, все равно с партийным билетом или без, смыкается плечом к плечу с новоявленными православными и обожателями Святой Руси. И все трое одинаково ведут происхождение от давным-давно забытого автора 'Записок еврея'. А тех, кто ушел молчком, и продолжает уходить, - легион, и первым кликнул легионерам клич все тот же Григорий Богров. Нет ничего удивительного, что большая цивилизация, она же цивилизация большинства, притягивает и поглощает носителей цивилизации меньшинства. Скорее удивительно, что в русско-еврейской культуре, вплоть до самой ее ликвидации советской властью, соблазн ассимиляции не нашел хотя бы еще одного столь прямого 'агента', как Григорий Богров. Мой любимый поэт Владислав Ходасевич перевел стихотворение никому не известного, по крайней мере в России, финского поэта Вейкко Коскенниеми, своего сверстника. Что подарил переводчик переводимому, я не знаю, да и не так уж оно и важно. Важно то, что русское стихотворение великолепно. Оно озаглавлено 'У костра', фабула его - отречение апостола Петра, но последняя строфа, к Петру же и обращенная, обращена и к нам, к нашей теме: Действительно, в известном смысле у чужого костра греется, в тот или иной момент, любой, не только ушедший, но и остающийся, не только Пастернак, но и Бабель, и даже Бялик с Шалом-Алей-хемом. Остающийся, однако же, не отрекается от своего костра, не отворачивается от него стеснительно, стыдливо, а, бывает, и гневно. И не забывает о нем. А случается и так, что о своем костре, т. е. культуре, и не знает, и узнать не спешит, но не спешит, не старается спрятаться от общих забот и тревог. Любопытнейшее признание оставила в своих 'Записях' историк литературы Лидия Гинзбург: при сверхполном обрусении, сверхполном же отрыве от еврейства ей было стыдно взять псевдоним, скрыться от еврейских неприятностей под русской фамилией. Вспомните письмо Богрова к Леванде в конце биографической главки! Но почему же 'Итоги?', почему вопросительный знак? Да потому, что они и не полны, и не окончательны. Не полны - потому что далеки от полноты и мои знания, в чем я не раз на протяжении моего очерка и признавался, и каялся. Не окончательны - потому что кто возьмется, кто дерзнет отвечать на главный вопрос и Григория Богрова, и мой собственный, и, наверняка, твой, читатель: что станет с русским еврейством, выживет ли оно? От того, как решится он, этот главный вопрос, зависит итоговая оценка писаний Богрова, роли, которую они сыграли или, по крайней мере, могли сыграть. Выходит, что пока итоги наши предварительны. Отсюда и знак вопроса. Но, по-моему, знак вопроса лучше точки. Будапешт, октябрь 1999 - июнь 2000
|