OCR Leon Dotan (07.2007) http://ldn-knigi.lib.ru (http://ldn-knigi.narod.ru)
наши пояснения и дополнения - шрифт меньше, курсивом
{Х} - Номера страниц соответствуют началу страницы в книге.
Старая орфография изменена.
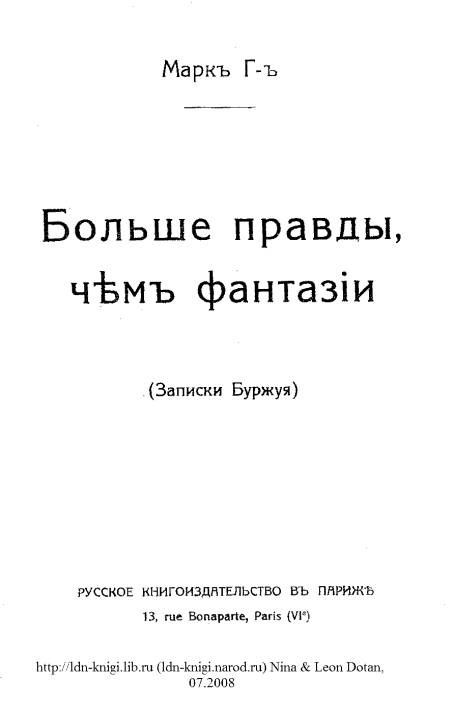
{3}
Маленькое вступление.
Лавры Марк-Твэна не дают мне покоя. Его называют величайшим юмористом нашего века. Меня тоже зовут Марк. Значит, некоторое сходство между нами есть и я решил написать книгу в духе американского Марка.
Помните, Гоголь говорил: 'смех сквозь слезы.' Хорошо было Гоголю, - в то время еще не было большевиков. А каково ныне, недорезанному бур-жую! Я уже выплакал себе глаза. Остается только один смех.
Вспомните еще раз Гоголя. Его городничий волнуется: 'Над кем вы смеетесь? Над собой вы смеетесь!'
От литературы к музыке - один шаг. Музы ведь сестры. Страдалец из оперы Леонковалло поет: 'смейся, паяц!'
'Итак, я начинаю!'
{5}
До войны.
Зимою мы ездили в Ниццу отдыхать, а летом купаться в Остендэ или Биарриц. Иногда мы умудрялись выкупаться и тут, и там... Возвра-щались домой конечно через Париж. Первые дни в Париже было интересно и забавно, но потом я предлагал жене ехать домой. Она отвечала: 'смешно приехать в Париж на две недели и уже удирать.' Я все таки удирал в родной Киев. Жена и дочурка должны были оставаться в Париже из за магазинов, - там их очень много, - и они возвращались домой позже меня. Приезжая, жена говорила: 'теперь снова будем торчать в Киеве.' В конце концов, жить в Киеве можно было, и даже недурно. Дочка подра-жала во всем маме, повторяла её слова, но в душе, кажется, радовалась возвращению. Она могла рассказать лакею и горничной про чудное море и Эйфелеву башню. Она не прочь была по-делиться своими заграничными впечатлениями и с кухаркой, и с прачкой, но мама ужасно не любила интимные беседы с прислугой, да и гувернантка была строгая.
Поездка заграницу было приятное событие. Радовались {6} авансом. За несколько дней до отъезда, лакей втаскивал дорожные сундуки, а горничная брала платок и стирала пыль. У меня не было таланта складывать брюки и сорочки, так что дамы заботились и о моем сундуке. Я же забо-тился о нижних местах в спальном вагоне и об аккредитиве. 'Бери побольше', говорила жена. Надо было также заказать по телеграфу комнаты в Elysee-Palace. Мы не меняли гостиниц, как перчатки..
Объявление войны.
В июле 1914 года нашей прислуге не суждено было почистить сундуки.
Сербский юноша убил австрийского наследника престола. Европа волновалась. Мы тоже.
О войне еще серьезно не думали, но в воздухе собиралась гроза. С одной стороны отлично понимали, что Сербии нужен выход к морю, а с другой сто-роны не отрицали, что Австро-Венгрия, хотя и лоскутная, но великая держава, не может оста-вить безнаказанным убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда.
В Киев однажды приехал Петр, старенький сербский король. Впереди мчался толстый полицмейстер, потом король и сзади наш важный гу-бернатор. Этот церемониал был традиционный. Мы стояли на улице и восторженно кричали 'ура!' а Петр любезно козырял. 'Даже особенно лю-безно', решила наша гувернантка. В доме это помнили и наши симпатий были в некотором роде на стороне Сербии. Хотя немножко жаль {7} было и дряхлого императора Франц-Иосифа. Он считался большим либералом.
С поездкой в Остендэ мы выжидали. Странно было, что Вильгельм и Пуанкарэ разъезжают в такое беспокойное время. Казалось бы, могли бы теперь и дома посидеть. Мы объясняли это тем, что президент выехал из Парижа до убийства Франца-Фердинанда, а хитрый кайзер что-то замышляет и что его вояж, пожалуй, для отвода глаз.
Гром грянул!
В тот исторический вечер к нам пришел знакомый сотрудник большой газеты. Он писал фельетоны на злобу дня, а иногда театраль-ные рецензии. Сотрудник был настроен пес-симистически; говорил, что последняя нота Са-зонова 'шах-мат' и война неизбежна, но что, если мы будем воевать, а немцы, паче чаяния, придут в Киев, то он, сотрудник газеты, пустит себе пулю в лоб. Мы ему не верили, и, действительно, когда три года спустя немцы во-шли в Киев, то сотрудник продолжал писать фельетоны и театральные рецензии.
Вдруг, раздался телефонный звонок. Некий Бобчинский волнуясь сообщил: 'Германия объявила войну!' Тут же дал отбой, чтобы снова первым рассказать это и другим.
Все побледнели. Стало жутко.
Война.
Война захватила нас, как и всех, целиком. Все мысли и интересы сосредоточились вокруг {8} неё. На столах появились атласы и карты театра военных действий. По утрам, просыпаясь, мы читали донесения штаба, а потом изучали военное положение по картам. Фронтов было много и занятий не мало. От поры до времени надо было вдуматься и в морское ведомство. Флот хромал. В 1904 году японцы потопили много наших броненосцев, а еще больше попортил 'Любезный Дядя' Августейший Адмирал Алексей Александрович со своей дамой сердца Балета. Много времени мы тратили на военные обозрения и 'специальные корреспонденции.' Ро-дители, братья и я жили в одном доме. Каждый выписывал 'свои' газеты, - литературные вкусы различны, - теперь же мы обменивались газетами и через месяц - другой я от чтения одурел. Лорд Китченер предсказывал, что война про-длится минимум три года, надо было пощадить себя и я больше пяти-шести газет в день не читал.
Как только объявили войну, родители устроили лазареты. Они так усердствовали, что первое время койки для раненых пустовали, 'сестрицы' скучали и ожидали генерального сражения. Они его скоро дождались.
Каждый из нас обязательно участвовал и заседал в 'военных' комитетах.
У мамы собирались дамы, шили белье для воинов и в доме было шумно.
Начались призывы запасных. Первым в доме забрали буфетного мальчика. Каждый пожимал ему руку и обязательно говорил: 'возвращайся прапорщиком и с Георгием.' Будущий прапор-щик {9} благодарил и даже прослезился от такого внимания. Потом позабирали так много людей, что наши чувства притупились.
Один брат тоже поехал на фронт, а дру-гой, близорукий, служил в тылу. Я был ста-рый ополченец II разряда. 'В крайнем случае попадешь в обоз', говорила мне мать, успокаи-вая себя и меня. В обозе я не очутился. Троцкий подписал брестский договор прежде, чем при-звали мой 'год'.
Война началась хорошо. Мы побеждали и ли-ковали. Киевские генералы Иванов, Алексеев, Рузский, Брусилов стали героями дня. Собственно говоря, Брусилов до войны служил в Виннице, но это так близко от Киева, что его гоже причислили к киевлянам. Наконец, и военный министр Сухомлинов был наш. Словом, Киев был молодцом. Одесса завидовала. Зато, когда Су-хомлинова судили, одесситы говорили ехидно киевлянам: 'ваш Сухомлинов', но киевляне от него открещивались. Наша доблестная армия вступила в Восточную Пруссию. Заняла Алленштейн. Я ежедневно передвигал по картам флажки. Решил, что завтра-послезавтра будем в Кенигсберге и перенес флажок в этот боль-шой город.
Вышло скверно.
'Послезавтра' Николай Николаевич оповестил страну, что Гинденбург проснулся и нам нужно без ропота выпить чашу испытания. Написано было высокопарно и слащаво. С досадой я переставил флажок далеко назад и он долго торчал где то в Августовских лесах.
{10}
Наши Союзники.
Союзников у нас было много: большие, сред-нее и маленькие. Мы конечно были больше всех и вначале смотрели на коллег свысока.
Разные союзники действовали разно. Одни про-ливали кровь, другие истекали кровью, некоторые поцарапались, а были такие, которые участвовали во всемирной войне, главным образом, для того, чтобы участвовать в мирной конференции. О том, что Сиам, Бразилия, Боливия, Экватор, Гуатемала, Гаити, Либерия, Никарагуа, Уругвай и Гондурас тоже нам помогали, мы узнавали не сейчас, а скорее мимоходом.
Милее всех нам была Франция. Союз само-державного 'гатчинского узника' Александра III и жизнерадостного президента республики Феликса Фора был оригинальный, но длился уже 30 лет, Россия с ним свыклась и естественно, что старый друг лучше новых двух.
Победы Франции были наша радость. Её пора-жения нас огорчали и расстраивали. Первый месяц союзница нас расстраивала. Храбрые pioupiou и poilus великолепно дрались, их командный состав был отличный, но немецкий железный кулак брал численностью. Германцы коварно на-рушили нейтралитет маленькой Бельгии. Назвав международный договор 'клочком ничего не стоющей бумажки', немцы прорвались там, где их меньше всего ждали, растоптали Бельгию, вступили во Францию, и французы отступали.
Несмотря на войну, астрономы занимались своим обычным делом и предсказали затмение, указав точно день, час и минуту. В виде {11} исключения, астрономы на сей раз действительно угадали. Мы видели затмение, т. е. несколько ми-нуть ничего не видели, ибо стало темно. Запач-кали себе руки и носы копченными стеклышками, но уверовали в науку. Прислуга утверждала, что затменье не к добру. Так оно и случилось. Донесенье Жоффра в тот день было критическое. Германцы приближались. Их летчики сбрасывали бомбы над Парижем. Правительство переехало в Бордо. Мы волновались. Вспоминали Трокадеро, гроб Наполеона, Лувр, Леонардо-да-Винчи и еще многое. Больное воображение рисовало уже, что немецкие гусары пришли в Булонский лес, уселись в Арменонвилле, заставили цыганский оркестр играть танго, а сами пьют бенедиктин и шартрэз.
Через день-два кризис миновал и наше настроение улучшилось. Через неделю мы уже ли-ковали. Германский генерал Клук поскользнулся. Он чересчур вытянул свой правый фланг и плохо укоротил левый. Дедушка Жоффр вос-пользовался этим обстоятельством, он заманил куда-то Клука и здорово его вздул. Потом было великое сраженье на Марне. Piou-piou вспом-нили Седан и дали немцам 'сдачу'. Жоффр усвоил себе отличную тактику 'grignoter l'ennemi'. Франция и Париж были спасены. Союзница нас больше не расстраивала и служила некоторым утешеньем после неудач Ренненкампфа, Самсонова и ничтожного Янушкевича.
Второе место в нашем широком сердце за-нимала пострадавшая Бельгия. Мы каждое лето купались в Остендэ, исколесили всю страну, {12} уважали спокойное и трудолюбивое население и тужили об её горькой судьбе. Генерал Леман, продержавшийся с горсточкой солдат на фортах Льежа, был наш любимец. Немцы вошли в красивый Брюссель, наигрывая игривый марш 'Пупсик'. Они осаждали Антверпен. Разгро-мили библиотеку в Лувене. При всем нашем воспитании, мы называли это большим 'свинством'.
Вступление Англии в ряды союзников нас ободрило. Старые счеты и раздоры по поводу Персии и Афганистана были забыты. Мы знали, что Англия надежный коллега. Правда, численность её армии нас не удовлетворяла. Высадившиеся в Калэ 1,5 дивизии вызвали ироническую улыбку, но перед Великобританским флотом мы пасо-вали.
Он заслуживал наше безграничное доверие. В доме нашелся скептик, заметивший, что у Джон Буля 'старые галоши', а у Тирпитца но-вые дрэдноуты, но мы заставили скептика замол-чать. Был еще один фома неверующий, сказав-ший: 'подождем, что запоют еще Индия и Египет'. Его перекричали. Зато другой джентльмен удо-стоился всеобщего одобрения, когда он удачно вспомнил отзыв Расплюева, из 'Свадьбы Кречинского', что Англия просвещенная нация и ан-гличане великолепные мореплаватели. Впоследствии, когда Франция и Россия теряли множество солдат, а Лондон медлил резервами, нашлись беспокойные люди, которые вспоминали персидские и афганистанские счеты. Прибавляли, что Англия будет воевать до последнего русского солдата. Конец войны показал, что не все остроты удачны.
{13} С Японией мы давно помирились. Забыли Мукден, Цусиму, Ляоян, Дальний, Порт-Артур и Стесселя. Мы приветствовали желтолицую союз-ницу и сожалели, что в Киеве нет японского консула, чтобы манифестировать перед флагом 'Восходящего Солнца'.
В 1904 г. 'Новое Время' обещало закидать 'макаков' шапками. Теперь оно писало, что сотни тысяч храбрых японцев с артиллерией, конницей и всякой амуницией дви-гаются через Сибирь. В результате выяснилось, что в Эртелевом переулке солгали; а, может быть, японская амуниция действительно двигалась, но микадо раздумал и повернул ее в Токио.
Сербско-черногорский фронт был коротенький и мы его изучили основательно. Несомненно, вое-вода Путник сделал все, что мог, но черно-горские 'орлы' были отрезаны.
К Италии мы отнеслись дважды восторженно. Она развелась с тройственным союзом и всту-пила в лагерь 'Согласия'. К военному духу теноров и баритонов мы, правда, относились скептически, но хорошо уже и то, что кто-то напирает на дохлую Австрию сзади.
Румыния долго колебалась, торговала, кокетни-чала, стреляла глазками направо и налево, чуть чуть не прозевала и в конце концов пристала. А la bonne heure! Лучше поздно, чем никогда. Возникал вопрос, как мы условились на счет Унгени, Сорок, Бендер, Кишинева и Калераша. Решили, пускай 'домнэлуй' пока воюет, а дипло-матия потом. Во всяком случае, если Трансильвания и Банат не удовлетворят Румынию и если придется прирезать кусочек Бессарбии, то {14} не-пременно всунут ей за одно также Пуришкевича.
Португалия и Монако нас мало интересовали. Новая республика считалась подручным Англии, а старое княжество прилепилось к Франции. Было только любопытно, вертится-ли еще в Монте-Карло рулетка.
С Грецией дела обстояли так себе. Правда, генерал Саррай захватил Салоники, но нас смущало, что Константин под башмаком королевы, а ко-ролева родная сестра Вильгельма и чересчур часто переписывается с кайзером. Мы сильно надея-лись на Венизелоса. Это такой, что у него муха не пролетит.
К тому времени, когда выступил Вильсон, мы уже были без голоса. Наша армия подала в отставку.
Наши враги.
Их было четыре.
Главный враг был германец. Он допекал всем. Дрался на всех фронтах с упорством и отвагой. Был неистощим на выдумки: газы, чудовищные пушки, огромные цэппелины (колоссаль!), тщательный шпионаж, пломбированный вагон с Лениным... Враг был опасный. Его боялись, но за стратегию уважали. Немцы проходили 'огнем и мечом'.Там, где по их соображениям необходимо было, они жгли, уничтожали и разоряли. Европа спрашивала: 'где ваша культура? Кант, Гегель, Шопенгауер, Гете, Шиллер, Бетховен?' На это Гинденбург, Лудендорф, Макензен, Тирпитц продолжали пускать удушливый газ и топить живой груз.
{15} Австрия, если хотите, в счет не шла. Гово-рили, что ее только ленивый не бил. Действи-тельно, судя по количеству пленных, которых мы брали, мы были уже одной ногой в красивой Вене. Недурно дрались 'мадьяры', но стоило по-смотреть в лексикон Брокгауза и легко было убедиться, что население Венгрии равняется боль-шой русской губернии. Почти ежедневно кто-нибудь вбегал и торопясь говорил: 'идите скорее, ведут австрийцев'! Мы скоро шли и видели грязных изнуренных пленных. Спрашивали: 'от-куда'? Те добродушно отвечали: 'Красностав' или 'Сан'. Зрители были настроены различно.
Большинство считало, что пленный уже не враг и не грех подать голодному человеку кусок хлеба. Были однако шовинисты, которые утверж-дали: 'таких мерзавцев и вешать мало'. Когда добродетельный зритель дарил пленным хлеб, те жадно набрасывались и вырывали его друг у друга. Конвойные клали конец 'этому безобразию' и подгоняли голодных австрийцев.
Неблагодарные братушки - болгары вывели нас из равновесия. Мы метали гром и молнии. Успо-коил нас Дорошевич. Он поместил в 'Русском Слове' удачный фельетон и закончил его словами Тараса Бульбы изменнику Андрею: 'я тебя породил, я тебя и убью!' Тарас изображал Россию, Андрей - Болгарию.
Выступление Турции нас не поразило. Это пред-видели. 'Больному человеку' хотелось выздороветь, проглотив Карс, Батуми и Феодосию. Война с Турцией прояснила даже нашу психику. Мы могли наконец ответить себе по совести, почему мы, {16} собственно, воюем. Неужели только из-за пре-стижа на Балканах? Неужели из за того, чтобы отстоять независимость Сербии? Неужели потому, что мы выдали векселей на несколько миллиардов? Теперь все было логично: нам нужны Дарданеллы. Милюков прав, тысячу раз прав!
Катастрофа приближается.
После короткого периода побед, наши военные и внутренние дела пошли из рук вон плохо. Не хватало снарядов, ружей, сапог, полушубков, белья, ваты, марли. Шло казнокрадство. Гучков достал секретные письма царских министров и оказалось, что мы играем в руку немцам.
Донесения штаба были однообразны, но видно было, что дело дрянь. Львов и Галич отдали обратно. Крепости Новогеоргиевск, Ивангород, Оссовец, Ковно, Брест летели, как карточные домики.
Искали козла отпущения. Его быстро нашли. Виною всему был, конечно, 'жид'. Николай Николаевич и Янушкевич заполнили одно оффициальное донесение сообщением, что в каком-то польском местечке евреи сигнализировали. Сухомлинову прислали найденную прусскую каску, а в каске список евреев-шпионов. Потом все оказалось выдумкой и клеветой, но цель была достигнута. Посевы дали пышные всходы. Обще-ственное мнение было обработано. Евреи-солдаты и еврей вообще почувствовали 'Кузькину мать.'
Стали выселять поголовно еврейское население {17} вблизи военного района. Генералы, особенно с немецкими фамилиями, приказывали жидам немед-ленно убираться. Волна беженцев замерзала по дороге или умирала с голоду. Иногда началь-ство было гуманно и отправляло выселяемых в поездах, набивая вагоны, как бочки сельдями. Поезда шли медленно, долго, вагоны были все время заперты и, когда их открывали на месте назначения, то вытаскивали полусумасшедших лю-дей или остывшие трупы.
(см. у нас материалы на http://ldn-knigi.lib.ru/JUDAICA/Navet.htm 'о насильственном выселении евреев во время I-ой Мировой Войны'. ldn-knigi)
Николая Николаевича с Янушкевичем пере-вели на Кавказ. За тихие успехи и громкое по-ведение. Распутин считал, что так лучше будет, но это не помогло.
Даже австрийцы начали храбро наступать. Не было больше пленных. Перестали писать про ка-зака Кузьму Крючкова, который заколол и нанизал на свою пику 83 германца.
Целыми меся-цами в донесениях сообщалось о какой-то вышке, Козювке. То мы ее уступали и с боем уходили, то 'на плечах неприятеля' выбивали его из Козювки. Ясно было, что кругом Козювки лежат десятки тысяч убитых солдат, но ни Берлина, ни Вены, ни Софии, ни Константинополя мы не возьмем.
Эвакуация Киева.
Заговорили, что Киев в опасности, что немцы возьмут его непременно. Все подчинялись 'главно-начальствующему по снабжению армий в тылу'. Угрюмый генерал сказал кому-то: 'придется эва-куировать'. Знали даже причину. В Сарнах стояли молодые ополченцы, немцы их атаковали, {18} ополченцы дрогнули и дорога на Киев была от-крыта.
В городе началась суматоха. Тревога росла с каждым днем. Городская дума собиралась в экстренные закрытие заседания. Газетам прика-зано было молчать, ни звука. В донесениях Верховного Главнокомандующего тоже ни намека. Вообще, печальные сообщения сообщались postfactum и туманно. Осветить предварительно стране общее положение, хотя бы приблизительно, считалось лишним и опасными. Вероятно, пола-гали, что Вильгельм прочтет и будет в курсе дела.
Началась эвакуация. Наши соседи послали на базар купить корзины и укладываться. Тогда мы решили не откладывать дела в долгий ящик. Со-стоялся семейный совет. Один участник заявил, что немцам, собственно говоря, Киев 'an und für sich' (на нем.- на самом деле; ldn-knigi) не нужен, но они без Днепра не могут воевать. Им нужна 'база'. Другой, тоже неплохой стратег, заявил, что Вильгельм подражает во всем Наполеону, что и он стре-мится в Москву, но, пожалуй, направится через Смоленск.
Заговорил еще брат, близорукий и общий любимец. Он был добряк, рассудительный, и всегда всех во всем утешал. Брат сказал: 'Кутузов пожертвовал Москвой и все кончилось хорошо. Значит, Киеву нечего важ-ничать.' Родители грустно молчали. Старикам тяжело было расстаться с насиженным местом. Наконец, отец закрыл заседание, постановив переселиться немедленно в курское именье. Дворник побежал за корзинами. Цены возросли на {19} них до 'нахальства'.
Мы укладывались. Акку-ратности и уменья теперь не требовалось, лишь бы поскорей, и я тоже усердствовал. Подходили к стенам, снимали картины и бросали их в корзины. Если произведение художника был боль-ше корзины, то его вынимали из рамы и клали декольте. Ковры забирали только дорогие, а тарел-ки с маркой vieux-saxe и alt Wien. Серебро таска-ли без различия. Большинство bibelots (на англ. - сувениры, украшения для дома; ldn-knigi) поломали, прежде чем уложили. Корзин не хватало и дворник снова бегал на базар, но приносил уже деревянные ящики. Шубы, белье, гардероб летели в ящик, а сверху укрывали их старин-ными книгами. Мебель пришлось оставить немцам. На вокзале была давка. Эшелоны солдат уез-жали на фронт, раненых эвакуировали в тыл, а обыватели уезжали в восточную губернию, смотря по тому, у кого где было именье, родствен-ники или гостеприимный приятель.
Революционные обычаи не были еще в моде и лезть в вагоны через разбитые окна было новшество.
В деревне.
Мы благополучно добрались в именье, отдавив себе и другим мозоли. Приехав в де-ревню, мы легко вздохнули. Отдохнули от го-родской суеты, всяких слухов и 'фактов'. Портил немного настроение наш управляющий. Старик Петровской академии был большой пессимист. Сейчас же нам заявил: 'еще одна мобилизация и пиши пропало! С бабой хлеба не уберешь, свеклы не выкопаешь, земли не вспа-шешь. {20} Да и еще какая баба, чтоб ей пусто было. На работу выходит в полдень; знает, что та-кое корсет, и румянится. Хороших лошадей по-забирали, оставили нам калек. Волы ни к черту!' Скоро были две еще мобилизации, а петровец, - отличный хозяин, - хлеб убрал, свеклу выкопал и землю вспахал.
В имении был лазарет, флегматик - доктор, болтун фельдшер и старательные сестрицы. Мы расширили лазарет, купили много белья, инструментов и часто туда ходили. Скоро еще больше научились уважать 'серого' человека. Это были большей частью редкие мученики. Их рассказы про ранения, контузии, столбняк, окопы, атаки, были бесхитростные повести, полные геройства и мужества. С болью приходилось выслушивать, как люди сутками лежали на полях сражения 'без 'маковой росинки' во рту'. Они истекали кровью потому, что санитары не успевали их подбирать, да и не было перевязочных средств. Вообще наши солдатики описывали войну совсем иначе, чем 'специальные корреспонденты'.
Иногда к нам приходили с просьбами. Какая-нибудь баба с ребенком на руках. Корсета и румян не заметно было. Очевидно, петровец сгустил краски. Солдатка плакала, что от кор-мильца год уже никаких весточек.
Приходит старый мужик и говорит, что сы-новей позабирали, а ему, хоть ложись да помирай. Неизвестно откуда, неграмотный старик знал про существование старца Распутина, который опутал царя и всем командует. Исправник тоже полушепотом рассказывал, что министры назна-чаются {21} Распутиным и без Гришки карьеры не сделаешь. Мы, горожане, могли бы расширить го-ризонты исправника еще новостями о Штюрмере или косноязычном Митеньке-юродивом, но мы молчали.
Донесения, обозрения и специальных корреспондентов читали по привычке, но апатично. Мы ходили часто в училище. Глядя на крестьянских детей, вспоминали Некрасова: черные, карие, синие глазки. Школьные учительницы преподавали с любовью и терпением. Дети умели читать, пи-сать и решать задачи; они понимали, что земля круглая, вертится, и показывали на глобус. Объясняли, какие имеются растения, животные и насекомые. Мы с ними подружились и кормили их конфектами.
Наступила зима. Мы катались на санках и говорили: 'куда лучше, чем Ницца!'
В доме появился сэттэр-гордон, которого управляющий подарил моей дочери. Он был черный и его прозвали 'Блэк'. Ночью щенок пищал, не давал спать, жена вставала с постели и поила Блэка теплым молоком.
Из Киева давно уже писали: 'опасность мино-вала, немцы уже далеко и можете смело возвра-щаться'. Мы однако колебались и медлили. Глав-ное не знали, какие ополченцы стоят теперь в Сарнах.
Посидели в деревне еще месяц и вернулись, наконец, в Киев. Захватили с собой и подростка Блэка.
{22}
Мы катимся в пропасть.
Война затянулась. Страна устала и изнемогала. Патриотизм падал и испарялся. Приезжали союз-ники. Ободряли советами, указывали промахи, ошибки, давали свои деньги и советовали нам побольше своих печатать. Затем они возвраща-лись к себе с тяжелым чувством и говорили про нас: 'сумасшедший дом'.
Из разоренной Сербии явился Пашич. Напомнил, как накануне войны Николай сказал серб-скому послу: 'мы вас не оставим'. Между тем Штюрмер это забыл.
Жить народу стало тяжело. Хлеба, топлива, обуви не было. Все вздорожало. Правили Распутин и его ставленники.
Нашлись храбрые патриоти, которые пригласили 'старца' покутить, дали ему отравленное шампан-ское, но яд не действовал. Пришлось Гришку застрелить и бросить в канал. Тогда царь бросил Ставку и приехал утешать царицу. Наконец нашли тело Распутина и царская семья по-хоронила 'святого' в укромном месте вблизи дворца.
Много авантюристов старались заменить временщика. Казалось, что больше всех шансов у одного породистого черногорского монаха. В конце концов взял верх Протопопов. Он хорошо кликушествовал и всесильная Вырубова назначила его первым лицом Российской Империи.
Страна погибала. Мы катились в пропасть.
{23}
Революция.
В феврале 1917 г. мне нужно было съездить в Петербург. Николай II, в пику немцам, велел именовать столицу Петроградом, но не все верноподданные слушались. Говорили по преж-нему Петербург. Если некогда было - Питер, а если не к спеху было, - то протягивали пол-ностью Санкт-Петербург.
Моя жена и дочь сидели там с нового года.
Писали мне, что в столице весело, о войне не говорят, а театры и рестораны переполнены. В балет трудно попасть, ибо перекупщики маро-деры.
Когда я ехал с вокзала, меня поразили длиннейшие хвосты у хлебных, мясных и овощных лавок. Несмотря на лютый мороз, вереницы плохо одетых людей стояли в очередях. Некото-рый лавки еще даже не открывались. Трамвай не шел. Я спросил извозчика, в чем дело. Он ответил, что трамвай бастует, путиловцы тоже, а обуховцы давно уже. Хлеба и овса в Питере нет и раньше извозчик охотнее возил за целковый, чем теперь за красненькую. 'Помяни слово, барин', он закончил, 'взбунтуется народ', и указал кнутом на длинную очередь лю-дей. Я нашел нужным внести успокоение в голову извозчика; сказал ему, что скоро подвезут хлеб и овес, а наша армия разобьет немца. Про себя решил, что извозчик толко-вый мужчина, а я болтаю глупости. Жена и дочь обрадовались моему приезду. Вчера им было уже не весело, а жутко. Они услыхали шум на улице, {24} подошли к окну и видели, как толпа с криком опрокинула трамвайный вагон.
Скоро на место прискакал конный отряд городовых но трамвай лежал уже на земле, а проволоки были порваны. Я успокоил своих дам и сказал, что такие случаи бывают и в Париже. Фран-цуженка-гувернантка подтвердила это.
Пришел паспортист заявить меня. Унес с собой целый пакет документов, ибо для лиц иудейского вероисповеданья полагались кроме обычной паспортной книжки еще удостоверения, свидетельства и всякая всячина. Я был с 'правожительством' и паспортист сказал, что, 'ка-жется', все в порядке,
В гостинице, по обыкновению, оказалось много знакомых. Один умный петербуржец (все столичные люди умные) сначала спросил меня, правда-ли, что в провинции тоже голод и тиф, а потом рассказал мне про 'звездную палату'. У него была хорошая память и он вспомнил, как в 1905 г. Николай спросил покойного князя Трубецкого: 'est-ce que c'est l'emeute?' На это Трубецкой ответил: 'Non, Votre Majeste, c'est la revolution!'
Трубецкой ошибся на 12 лет.
1. Марта 1881 г. горсточка нигилистов, Желябов, Перовская, Кибальчич, Гриневецкий, Гельфман, Рысаков подрезали корень и расшатали устои романовской династий, а 36 лет спустя, и тоже 1. Марта, царский поезд метался между станциями Благово и Псковом и тщетно искал якорь спасения. Все почти покинули царя.
Два монархиста, Гучков и Шульгин, предложили внуку убитого {25} Александра II отречься от престола. Гвардейские полки, выборгский, измайловский, семеновский, преображенский, оспаривали друг у друга пальму пер-венства и говорили, что Россия им обязана восстанием, свободой, что это они обезглавили царизм. Сводный Его Величества конвой выбросил красный флаг и пел марсельезу. Армия и флот примкнули. Их депутации дефилировали у таврического дворца, а председатель государствен-ной Думы, консерватор Родзянко, приветствовал революционеров. Великие князья откровенничали с прессой и рассказывали, что они давно пред-видели революцию, говорили и писали об этом царю, но он был глухой и упрямый; главная-же вина падает на Александру Феодоровну, 'гессен-скую муху'.
Цепи рабства пали. Свободные граждане с облегчением вздохнули и надеялись на светлое будущее. Казалось, что страна застрахована от прежних ужасов, страданий, пыток, каторги, ссылки и казней. Революцию назвали светлой и бескровной.
Пресса - седьмая великая держава - освобо-ждалась от железных тисков цензуры, ко-торая обрезала и уродовала печатное слово. Правда, с годами мы научились эзоповскому языку. Ко-гда Амфитеатров писал 'Обмановы', то мы по-нимали, что это Романовы. Теперь седьмая дер-жава спешила в таврический дворец, - к источ-нику новой жизни, - и стремглав возвращалась в редакции, кухню правды и уток. Там она пела восторженные оды и дифирамбы бескровной революции. Гоголь, кажется, страдал оттого, что {26} наш язык не так богат, чтобы передать все человеческие чувства. Эта была теперь единствен-ная печаль 'Нового Времени', вчерашнего лейб-органа самодержавия.
Мы несколько раз в день получали экстрен-ные выпуски газет. Внизу в гостинице воз-никла оригинальная аудитория. Нашелся чтец с голосом Шаляпина и запомнившей слова Фаму-сова - читать 'с чувством, толком, расстановкой'. Мы оказались благодарными слушателями. Нашлись и экспансивные люди, которые от поры до времени восклицали 'браво' или 'давно пора было'. 'Браво' относилось, например, к цир-кулярной телеграмме комиссара Бубликова по железнодорожным станциям продолжать работу и спокойно выжидать хода дальнейших событий. 'Давно пора было' имело отношению к аресту Щегловитова.
Несмотря на быстроту и натиск, революционеры все таки знали, где раки зимуют, и производили аресты в общем с разбором. В таврическом дворце устроили кутузку и туда привозили столпов реакции и черносотенства.
'Звездная палата' красовалась в лице главной почитательницы Распутина, Вырубовой, несменяемого министра императорского двора Фредерикса, всесильного дворцового коменданта Воейкова и экс-министра Маклакова, сделавшего карьеру благодаря изумительной мимике лица и уменью под-ражать рычанью пантеры. Нашли Щегловитова, которого даже придворные называли Ванькой-Каином. Привезли Горемыкина, который сам себя характеризовал словами: 'Я старая шуба {27} Правительство - надевает ее в холодные дни реакции'. Публика о нем отзывалась иначе: 'горе мыкали мы прежде, горе мыкаем теперь'.
При виде предателя Сухомлинова, злосчастного Штюрмера и беспринципного Протопопова, толпа, окружавшая Думу, хотела линчевать их, но стража спасла триумвират.
Привезли министра Добровольского, обязанного портфелем не юриспруденции, а спиритизму и верченью столиков.
Саблер, по отчеству 'Карлович', был достой-ный ученик инквизитора Св. Синода Победонос-цева и был привезен вместе с друзьями Распу-тина: митрополитом Питиримом и тибетским доктором Бадмаевым. Вообще дух незабвенного 'старца' витал в этом почтенном собрании.
Из сенаторов удостоился чести попасть в кутузку Чаплинский с ритуальной карьерой по процессу Бейлиса.
Доставили бывшего товарища министра Белецкого. Сначала Распутин называл его из особого расположения запросто Степан, а потом Степан чем-то не угодил Гришке и яркая звезда Белецкого внезапно закатилась.
Из бюрократов чином поменьше привезли градоначальника Балка. По его инициативе 'Фа-раоны' - городовые, стреляли в революционеров из пулеметов с крыш домов. Не забыли главных погромщиков и основателей союза русского народа: Дубровина и Полубояринову.
Если заодно хватали лиц, бывших министрами {28} при Николае II по несчастью, то их скоро вы-пускали, как-то: Коковцева и еще немногих.
(см.: Граф В. Н. Коковцов (1853-1943) 'Из моего прошлого 1903-1919 г.г.' и другие воспоминания на нашей стр. ldn-knigi)
Недавние вершители судеб, властные, надменные и строгие, сразу пали теперь духом и сделались жалкими людишками. Они дрожали, просили по-щады, в чем-то извинялись...
Протопопов оказался истеричным.
Старый режим умер!
Сперва свободные граждане предполагали стать конституционными монархистами на английский манер, но скромный В. К. Михаил Александрович отказался от предложенного ему престола или регентства. Тогда у нас появился еще больший аппетит, l'appetit vient en mangeant, и мы сделались республиканцами, по крайней мере до созыва Учредительного Собрания.
В России образовалось Временное Правитель-ство: князь Львов, Милюков, Гучков, Керенский. Все хорошие имена и честные люди.
Имя Керенского было у всех на устах. Мы считали, что молодой оратор превзошел Мирабо, Гамбетту и Жореса.
На улицах праздничная толпа с красными петличками, в том числе старые генералы и ад-миралы, радостно гуляла. Офицеры сняли погоны, иначе солдаты их срывали. Приказ ? 1 был первая беспокойная ласточка.
К нам в гостиницу нагрянули полупьяные матросы. Они явились прямо с корабля на бал. Вообще матросы покинули море и обосновалась на суше. Угрожая и размахивая револьверами, они шли на чердак, искали пулемет, а потом заходили в комнаты и обыскивали нас. На на-ших же {29} глазах много вещей исчезало. Управ-ляющей гостиницы, ловкий человек, клялся 'то-варищам', что у него в гостинице нет 'контр-революционеров'. Матросы интересовались, где винный погреб, но управляющий клялся, что погреб пустой. Ему поверили. Гроза миновала!
Ворвался еще какой-то прапорщик, ругал 'Николашку', требовал мира без аннексий и контрибуций и выстрелил из револьвера. Ни в кого не попал и ушел, а нервные дамы упали в обморок.
Углубление революции.
Мы сидели в Петербурге еще месяц.
Во избежание 'эксцессов' буржуи присмирили и старались не бросаться в глаза. Наша ауди-тория прекратилась, успев собрать еще крупную сумму в пользу революционных жертв. Депу-тация, в составе двух русских помещиков, польского магната и богатого еврея, вернулась из таврического дворца разочарованной. Правил совет солдатских и рабочих депутатов.
На силу мы выбрались из Петербурга. С трудом достали железнодорожные билеты. Они ока-зались лишними, ибо вагоны были переполнены и кондуктора отсутствовали. Подозрительные типы, дезертиры и мешочники, располагались в купэ, а платные пассажиры стояли в коридорах и рады были, что 'типы' их не высаживают.
В Киеве дела обстояли скверно.
Не успела 'весна' наступить, как все хорошее весеннее миновало. Догорели огни и облетели уж цветы. {30} Народ понимал революцию свое-образно и превратил ее в сплошной митинг. Наступила оригинальная эпоха ничегонеделанья. Грызли семечки и загадили тротуары. Старые законы отменили, новых не признавали. Не вы-жидая обещанной аграрной реформы, крестьяне повыгоняли помещиков и захватили землю и скот. Сами же плохо хозяйничали. Лица, стояв-шая во главе промышленных и торговых предприятий, почувствовали всю прелесть такого социа-лизма. Руки опускались. Рабочие проводили восьмичасовый рабочий день в заводских комитетах. Производство падало с каждым днем. Был сумбур и хаос. Вагоны и паровозы изнашива-лись, их не ремонтировали и новых не строили. Углубляя революцию, мы мчались по обрыву и вот-вот должны сорваться в бездну...
В столице менялась власть. Коалиционное ми-нистерство распалось и левело. Бабушка Брешко-Брешковская, Плеханов, Кропоткин, Гоц, Дан не были уже в моде. Спиридонова и Чернов называли их прихвостнями буржуазий. Керенский выбивался из сил.
Он объезжал фронт, куда проник большевизм. Крыленко и Ко. совето-вали солдатам не проливать пролетарскую кровь за капитализм и империализм.
Керенский советовал сражаться и его прозвали 'Главноуговаривающим'. Он успел сделать последнюю по-пытку. Батальоны смерти, женские отряды, юнкера дали сраженье врагу, потеснили его, взяли пленных, но использовать победу не могли. Резервы митинговали, убивали офицеров и грабили ин-тендантство.
{31} Немцы воспользовались разрухой и привезли Ленина-Ульянова в пломбированном вагоне. Он поселился в особняке балерины Кшесинской, а потом в Смольном институте благородных девиц. Началась междоусобная война. На фронте братались с врагом, а внутри страны воевали. Временное правительство боролось с корнилов-щиной справа и со Смольным институтом слева.
Сильнее всех оказался Ленин. Он обещал мир, хлеб, коммуну и земной рай. Veni, vidi, vici.
Ленин сел на Романовский трон. Его оприч-ники разогнали Учредительное Собрание и вручили всю полноту власти пролетариату, т. е. Владимиру Ильичу Ульянову. Он дирижировал, а Троцкий, Сталин, Луначарский, Менжинский, Теодорович, Зиновьев, Шляпников и другие народные комис-сары разыгрывали большевистскую какофонию.
Са-молюбивые фантазеры, идеологи, озлобленные эми-гранты, больные люди, нищие духом, выскочки, садисты стали во главе огромного расшатанного государства. Они сделались лидерами потерявших голову людей. Диктатура пролетариата ко-пировала все худшее, что дала французская ре-золюция. Новые Робеспьеры и Мараты на ходулях взяли бразды правления в свои кровавые руки.
Красный террор, военно-революционный трибу-нал, чрезвычайная следственная комиссия, обыски, аресты, пытки и казни были альфа и омега 'Сов-наркома'. Декреты сыпались как из рога изобилия.
Исполнилось
библейское проклятье над несча-стной страной: 'И проклянет
жизнь Господь {32} Бог твой: и встанешь ты поутру, и будешь
мо-лить: 'о, если бы настал вечер', а
вечером
будешь молить: 'о, если бы настало утро'. Была еще другая молитва
словами
Пушкина:
'... и думать про себя,
Когда-же чорт возьмет тебя!'
О большевиках и большевизме.
(Своего рода афоризмы).
Ленин обещал зажечь всемирную революцию, но спалил только Россию. Он протягивал руку интернациональному пролетариату, но она повисла в воздухе...
----------------------
Он сделал из России грязную лабораторию, превратил жителей в кроликов и производил над ними социалистические эксперименты.
----------------------
Социалистический апостол Карл Маркс рекомендовал безболезненный переход капитала к коммунизму ('легкие роды'). Приверженцы этого учения применяли его в чрезвычайках и пытках.
----------------------
Большевизм напоминал собою животное с маленькой еле заметной головой и длиннейшим хвостом. Хвост перетягивал туловище с го-ловой. Ученые искали у феномена сердце, но на-ходили только яд.
----------------------
Когда большевики поселились в Кремле, то {33} москвичи вспомнили Иоанна Грозного и Малюту Скуратова. Тени инквизиторов появились в лице Дзержинского и Петерса.
----------------------
Когда дети капризничали, то няньки прибегали к прежним испытанным методам воспитания и пугали 'Бабой-Ягой'. Если и это не помогало, няньки говорили: 'сейчас прийдет большевик!' Дети дрожали и молча забивались в угол.
----------------------
Пробуждаясь от кошмара, Ленин говорил: 'большевизм кончается, - некому только его по-хоронить'. Обыватели надеялись, что пессимизм Ленина во второй части не оправдается и могиль-щики все таки найдутся.
----------------------
В минуты откровенности Ленин говорил, что на 100 большевиков приходится 1 идеалист, 29 негодяев и 70 дураков. Публика считала, что в общем Ленин прав. Он преувеличивал только пропорцию идеалистов...
----------------------
Бисмарк и Талейран скрывали свои мысли. Троцкий и Чичерин открывали их 'всем, всем, всем'.
----------------------
При царе Николае II жены министров коман-довали через своих мужей, а при Ленине комиссарши правили непосредственно.
----------------------
Большевики социализировали женщин, не делая разницы между брюнетками и блондинками. Исключение делалось иногда для некрасивых.
----------------------
{34} Черносотенцы утверждают, что симбирский дворянин Ульянов-Ленин жид, а стрелявшая в него Дора Каплан православная.
Они также помнят, что Урицкий был еврей. Кто был убивший его студент Каннегисер, их не интересует.
----------------------
Говорят, что немцы выдумали обезьяну. Это постольку верно, поскольку Ленин похож на шимпанзе.
----------------------
3 Марта 1918 г. заключив мир, немцы хотели воздвигнуть в Брест- Литовске памятник с над-писью 'благодарная Германия большевикам'. В конце 1918 г. немцы хотили заменить эту надпись словами 'fauxpas', но Россия утверждала, что правильнее будет написать: 'что посеешь, то по-жнешь!' (fauxpas, на франц. - ложный шаг; ldn-knigi)
Pro domo Киев.
В Киеве официальный большевизм наступил de jure позже.
Литом 1917 г. приезжал Керенский. Его авторитет падал, но киевляне встретили молодого кумира все еще с энтузиазмом. Кричали жен-щины ура и в воздух чепчики бросали.
Две молоденькие мои кузины простояли целый день на вокзале, два раза лицезрили 'душку' и вернулись домой голодные, усталые, но гордые.
Приехали также в Киев французские авиаторы и Croix Rouge с лазаретом. Мы уже воевали {35} только на бумаге. Авиаторам некуда было ле-тать, а Croix Rouge трудно было достать новых раненых. Смущенные союзники играли с нами в бридж. Мы, буржуи, тоже располагали свободным временем, ибо заводские комитеты нас упразднили. Мы рассказывали французам, как наши рабочие понимают социализм и что мы погибаем. Союзники рассказывали нам про Вердэн, Реймс, Жоффра, Фоша, и говорили, что будут воевать jusqu'au bout!
И они, и мы свои слова сдержали.
Украина.
Тем временем у нас, а, может быть, пра-вильнее будет сказать - с нами, случился редкий фокус. Киевская, Подольская, Волынская, Черни-говская, Полтавская, Херсонская, Екатеринославская, Харковская и Таврическая губернии (кажется, что только девять и не больше) перестали суще-ствовать. Вместо них возникла Украинская Дер-жава. Численностью населения и величиною но-вая республика была вроде Франции. Разница заключалась во флагах. У Франций сине бело-красный триколор. Украина же почтила двух-цветный желто-голубой флаг. Исторически событие произошло так.
В Киев приехал профессор Грушевский и объяснил, что Малороссия и малороссы lapsus linguae, а что есть Украина и украинцы. Открытие имело огромный успех. Возникла Рада. Она же в свою очередь, в виде сильного аргумента, образовала полуботковский полк.
{36}
'Украина глухо волновалась.
Давно в ней искра разгоралась...'
Об этом узнало Временное Правительство. Дел у него было много, но медлить с таким 'недоразумением' тоже нельзя было. Решили ехать в Киев. Керенский недавно лишь уговаривал фронт и горловые связки его отказывались от дальнейшей интенсивной работы. Поэтому для речей ему дали в помощь Церетели. Будучи юристом и памятуя tres faciunt collegium, Керенский захватил с собою и Терещенко. Полагали, что связи Терещенко с Киевом, где министр иностранных дел недавно еще ходил в коротких панталонах, могут пригодиться. Ему же и поручили вступительное слово. Colegium явился в Раду, поздоровались честь-честью и засим Терещенко обратился к украинцам дипломатично, вежливо и укоризненно.
'Шо цэ ви, панове, затиали?'
Вместо ответа старик Грушевский стал сам задавать вопросы земляку:
'А скажите, молодой человек, вы социалист?'
Молодой министр что-то проглотил и ответил:
'Почти социалист.'
'А знаете вы', продолжал Грушевский, 'что такое самоопределение народов?' 'Слыхал', ответил Терещенко. 'И знаете, что такое автономия?' Терещенко оказался знающим. 'Ну то-то же'.
И этим Грушевский закончил короткий экзамен, поставив Терещенко пять с плюсом. Временному Правительству не пришлось долго {37} 'балакать' и тратить лишние слова. Time's money.К тому же они спешиливернуться в Петербург. Управляющий совета министров, тоже молодой юрист, надоедал им по прямому проводу о ка-кой-то новой эпидемии.
Сразу понаехало много народу из Польши, Финляндии, Кавказа, Сибири, Эстляндии, Курляндии, Лифляндии, с Дона и спрашивали хором мини-стров:
'Скажите, молодые люди, знаете-ли вы, что та-кое самоопределение народов?'
Уезжая из Киева, Colegium условился с Радой, что Соединенные Штаты будут жить в мире и согласии, как полагается добрым соседям. Полуботковцы обещали защищать единый фронт. Если же Украина напечатает карбованцы, то сия монета без золотого фонда будет иметь хождение наравне с керенкой Керенского. Этот словесный трактат имел только значение внутри страны, ибо заграницу ни с керенками, ни с карбованцами далеко уехать нельзя было.
Итак, мы жили на Украине.
'Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух...'
Помнили, что 'богат и славен Кочубей, его луга необозримы'.
Мы помнили 'именитых и дюжих' запорожцев Кукуренко, Бульбенко, Метелицу, Печерицу, Закрутыгору.
Мы видели на сцене Садовского, Саксаганского и Крапивницкого.
{38} Мы слыхали музыку Лысенко и 'гопака'.
Едали вареники.
Евреи в частности помнили Украинскую резню Гонты, но считали, что 'семья не без урода'.
Пока Временное Правительство существовало, Рада держалась корректно. Правда, полуботковцы на единый фронт не пошли, но самостийники были в меньшинстве и в Киеве существовали власти Керенского и Грушевского, так сказать, pele-mele.
Как- только Ленин свалил Временное Прави-тельство, наши местные большевики, с сахарозаводчиком Пятаковым во главе, решили сделать такой же переворот на берегах Днепра.
В городе завязалась перестрелка.
Наш дом к несчастью находился как раз на театре военных действий. Прибежал друг дома, доктор, и забрал нас к себе в тыл, ибо на его улице не было передовых позиций. Три дня он нас кормил и давал бром. Нам даже совестно было. Как раз недавно перед этим, кто-то в семье заболел и пригласили не медика друга, а профессора-терапевта. Впрочем друг был деликатный, избегал об этом гово-рить и очевидно знал, что это может вновь слу-читься.
Вдруг кто-то пришел с неожиданной новостью.
'Господа, поздравляю. Уже помирились и со-шлись на украинцах. Ни Ленину, ни Керенскому, а 'одному Грушевскому''.
Действительно так оно и было.
На сей раз девять губерний окончательно вы-шли из состава Российской Империи, отмежева-лись {39} от Соединенных Штатов и стали независимым государством.
Несколько месяцев мы не были подданными Ленина и Троцкого .
Петроград и Москва были в аду, а мы почти в раю.
Нас не звали в чрезвычайку, не ставили к стенке, не пытали, нас не судил революционный трибунал, не посылали на общественные работы, нас не вешали и не кололи, не зарывали жи-выми в землю, мы не платили ста рублей за гни-лую селедку, наши дети не умирали от истощения. Нас не национализировали, не уплотняли, не выселяли, не переселяли...
Нас оставили в покое.
Были кой-какие домашние украинские неприятности, но мелочи в счёт не идут. Увы, скоро Ленин о нас вспомнил!
Наступление Муравьева.
Большевики наступали на Киев.
Уезжая из Москвы, царский полковник Муравьев побывал в Совнаркоме и твердо обещал быстро расколошматить Украину, сделав из неё мокрое место, а строптивую мать русских городов согнуть в бараний рог.
'Уж будьте благонадежны, Владимир Ильич' говорил Муравьев. По видимому Ленин остался доволен и дважды повторил: 'смотрите-же, то-варищи, постарайтесь, за нами служба не пропадет!'
Тут же приказал 'Главковерху' Крыленко {40} дать побольше пушек, несколько броневиков, а пулеметов сколько влезет. Что касается войска, то направить лучшую гвардию Советской России'.
Это означало: китайцев, латышей и тех каторжан, которые недавно переселились из Сибири в Кремль. Собственно говоря, эта гвардия нужна была и Крыленко для Казани, Ярославля, Нижнего, Саратова и Самары, но Главковерх не мог ослу-шаться Совнаркома и с болью душевной расстался с красою и гордостью армии.
Итак, большевики наступали на Киев, а Рада заседала и устанавливала штаты. Самостийники спорили с федералистами, Бунд поставил ультиматум сионистам, а поляки народники пере-мигивались с местными коммунистами. Пан Гру-шевский рассердился и сказал, что 'у таким рази вин сивсим уйдэ. 'Рада просила: 'будьте же ви так ласкивы и почикайты трохэ'. Грушевский остался, а Муравьев приближался.
Орудия грохотали, пулеметы трещали, стены дро-жали, а стекла лопались и звонко разбивались о тротуар. Стреляли еще местные хулиганы, но на это уже никто не обращал внимания. Quantite negligeable! Некоторые наивные обыватели были даже довольны. Они принимали хулиган за милицию, которая очевидно наводит порядок. Увы! первой разбежалась милиция и попряталась у своих 'жинок'.
Улицы опустели.
Мы долго обдумывали, как быть? Спорили, ре-шали и перерешали, но в конце концов, по стратегическим соображеньям все сразу, не споря уже, спустились в подвал. 'Блэк' увидя {41} так много гостей в своих апартаментах, рас-терялся и начал усиленно лаять. Мать велела прачке забрать 'противного' Блэка наверх. Прачка показала Блэку кусок сахару и дала ему его тогда, когда заманила уже собаку в барские покои. Вышло chassez-croisez.
Мы стали приспособляться к подвалу. Кучер с дворником приставляли к окошку лестницу. 'На случай засыплет, чтоб можно было вылезть'. Решили, что кучер и дворник неглупые люди.
Буфетчик поставил рядом два кухонных стола, накрыл их скатертью и с серьезным ли-цом расставлял тарелки, вилки, ножи, ложки. Даже достал пару салфеток. Господа проголодались и не прочь были закусить. Горничная беспрерывно шмыгала взад и вперед.
Ей сделали замечание, но она поклялась, что ей 'очень нужно'! Таин-ственно держался истопник: молчал и часто смотрел куда-то в сторону.
Застрявшие в нашем доме два французских летчика держались храбро и с достоинством. Они объяснили дамам, как легко различать звук снарядов, 'l'arrivee et le depart' Дамы из приличия говорили: 'vraiment, c'estcurieux', но перепуганные ничего не понимали.
Около меня неотступно стоял старенький лакей и докладывал, что слышно на фронте. У тетки, по нашей же улице, провалился потолок дома и всех придавил. В дом старшей сестры попало четыре снаряда, так что дом 'безусловно' в опасности, а в квартире младшей сестры загоре-лось, тушат и особенно старается лавочник, живущий внизу. Лучше всех, по словам лакея, нам, {42} ибо подвал очень надежный. Дворник, правда, заметил трещину в левой стене, но дом, с Божьей помощью, выдержит. Я рассеянно слушал и трясся, как осиновый лист.
Наш конторский артельщик долго жил в Баку и Манчжурии. Он видел, как татары ре-зали армян и хунхузы рубили голову китайцам. Сидя с нами в подвале, он почему-то вспомнил это теперь и увлекательно рассказывал. Мне становилось жутко до тошноты. Я забывал татар и Баку, хунхузов и Манчжурию, а думал про бедный Киев и набитый буржуями подвал.
'Весело и приятно!', заметил остроумно кто-то из семьи.
По ночам в длинном коридоре расставляли походные кровати, оставшиеся от городского ла-зарета. Мужчины уступали их конечно дамам, а сами устраивались на деревянных скамейках. Мы проводили эти длинные ночи в кошмарной полудремоте. Храбрые французы с моим тоже храбрым братом, приехавшим с немецкого фронта, подымались на ночь наверх.
Блэк радовался, что он не один, возбужденно встречал их и лизал им руки, украшенный кольцами.
Так прошло трое суток.
Орудия грохотали, пулеметы трещали, хулиганы стреляли и стены дрожали. Только окна не ло-пались, они все уже лопнули.
В довершение к этой музыки, в наш под-вал стало доноситься дикое ржанье лошадей из конюшни. Их все время не кормили, не поили и они разозлились. Ревели и били копытами о пол. {43} Мы укоряли кучера за такое безобразие и спрашивали, где его совесть. Кучер отвечал, что кроме совести у него еще жена и маленькие дети. Те стояли тут же рядом и подтверждали это в лицах. Пробраться в конюшню можно было только через сад, а там лежало несколько деревьев, точно срубленные, остальные же, простре-ленные, грустно наклонились к земле и не могли подняться. Вслед, за лошадьми стала мычать ко-рова. Помощница кухарки всегда ее доила и те-перь от жалости заплакала. Буфетчик строго на нее посмотрел.
Горничная устала шмыгать и помогала помощ-нице кухарки чистить картофель на обед. Господам и прислуге полагалось только два блюда: картофельный суп и картошка в равном виде: frites, saute, и en robe de chambre.
Наконец дамы действительно научились разли-чать depart от arrivee. Только мать все еще не хотела научиться. Хотя в подвале было жарко, но ей было холодно.
На фронте стало как будто спокойней. По крайней мере так рапортовал лакей. У млад-шей сестры огонь потушили, сильно лишь обжегся лавочник и говорят, что бедняга Богу душу отдал; о старшей сестре и теткином потолке но-вых известий не поступало.
У меня по телу бе-гали мурашки и зуб на зуб не попадал. На-конец жена заметила старенькому лакею: 'барин и без того разнервничался, а вы его больше расстраиваете'. Меня жена тоже пожурила. 'Взрос-лый мужчина, дочери, слава богу, уже 14 лет, и такой малодушный. Возьми себя в руки!' {44} Дей-ствительно, я не мог отрицать, что я мужчина, что дочери 14 лет, но взять себя в руки трудно было. Они все время сами дрожали. 'Раскладывай пасьянс', советовала жена, 'а еще лучше, сы-грай с французами три роббэра в бридж. Они таки внимательные, даже спрятали у себя на гру-ди мой жемчуг'. Я посмотрел на жену с недоумением и направился к артельщику, чтобы снова поговорить с ним о татарах, хунгузах, Баку и Маньчжурии.
Неожиданно появился новый спорт. Около на-шего дома поставили юнкеров, защитников го-рода. Дамы ходили на верх угощать их. Больше всех старалась французская гувернантка. Она стояла на политической платформе 'Confederation de Travail', уважала социализм, не признавала большевиков и презирала Муравьева. Мы спра-шивали юнкеров, что слышно? Они пили чай и говорили: 'завтра все кончится'. Чем кончится? - мы боялись спросить.
Раз к нам забрели казаки. Француженка по-теряла голову, говорила, что надо обязательно до-стать еще один самовар, а то на всех чаю не хватит. Интересовалась, откуда казаки. 'Sont-ils du Don?' Оказалось, что они кубанцы, но этого француженка не поняла. Артельщик решил, что новые защитники вероятно случайные дезертиры. 'Чай пьют, от разговоров уклоняются и не знают, какой части'. Один только, рыжий детина, в веснушках на лице и с сережкой в ухе, не-ожиданно заявил: 'все леволюционеры жиды пар-шивые'. Я как раз в это время угощал его папироской, успел закрыть рукой свой типичный {45} нос, но мне чуть-чуть не сделалось дурно. Наш остряк из подвала имел случай снова заме-тить: 'весело и приятно'.
На пятый день у нас было большое волнение. Ключница подслушала, как истопник сказал прачке: 'большевики молодцы, а буржуи кровопийцы'. Мама советовалась с младшим братом, любимцем, что же сделать? Может быть, при-бавить истопнику жалованья? Но другой брать, храбрый и с крепкими нервами, просил прекра-тить этот разговор, а ключнице сказал, что сплетничать не хорошо.
На седьмой день волнение дошло до наивысшего напряжения. Стало известно, что Ленин недово-лен Муравьевым за медлительность. Владимир Ильич вызвал Крыленко в Кремль, сказал, что Казань, Ярославль, Нижний, Саратов, Самара не к спеху и Волга подождет, а чтобы немедленно послать болвану - Муравьёву девятидюймовки и побольше гвардий, т. е. еще каторжан, умеющих стрелять. Если же остались после Алексеева и Брусилова удушливые газы, то их тоже нечего прятать для Ярославля. Главковерх почесал лы-сину, сказал 'слушаюсь' и скрепя сердце отослал все Муравьеву.
Багажную квитанцию на девятидюймовки и список новых эшелонов вру-чил прапорщику Дзевальтовскому. Тот уже в Киеве бывал и даже сидел там на скамье под-судимых.
Девятидюймовки помогли.
Правая стена нашего дома тоже дала трещину. Вообще мы решили, что все снаряды летят теперь только к нам. Кучер беспрерывно караулил {46} лестницу, чтобы, на случай 'засыпет', вылезть первым.
Жену свою и маленьких детей забыл. Лошадей давно уже, но 'Красавчик' и 'Разбойник' ждали не дождались и очевидно сами себе раздобыли где-то корм. Часть отдали другу - соседке, беспомощной корове. Мой старенький ла-кей объяснил усиление фронта просто, ясно и наглядно: 'Муравьев приказал артиллерии раз-нести царский дворец вдребезги, а они, подлецы, плохо прицеливаются и лупят в нас. Поми-луйте, барин, что-ж это за недоразумение, ска-жите ради Бога!' 'Барин' вздрагивал и не мог ответить. Французы были смущены. Часто, когда снаряды рвались близко (l'arrivee), они говорили: 'Tiens-tiens, sapristi, cachauffe!' Советовали дамам заложить уши ватой. Я плохо слышал грохот пушек, но отчетливо слышал, как мое сердце стучало и билось. Мои зубы выбивали дробь.
С быстротой молнии по городу разнеслась сенсационная новость. Премьер и весь кабинет сели в автомобиль и уехали из Киева. Куда - не известно. Говорили, в Брест - звать немцев на выручку. Винниченко еще до того поселился в провинции. Знали, что он пишет страшную по-весть, страшнее всех прежних. Киев обозлился на удравших министров и придумал новое сло-вечко: 'Вся Украина поместилась в один авто-мобиль и сбежала'.
Мы остались на попечении социалистической го-родской думы. Голова, члены управы и председатель совета рабочих депутатов также сели в автомобиль и поехали с белым флагом на Пе-черск. {47} По их соображениям, штаб Муравьева был уже там. Так оно и было. Парламентеры благополучно доехали, но Муравьев их не принял. Вышел его ординарец и спросил, что буржуям надо. Социалисты-буржуи заявили, что украинской власти уже нет, жители беззащитны, голодны и страдают. Капитуляция на каких угод-но условиях. Ординарец доложил это главно-командующему, а Муравьев тут-же послал по-здравления Ленину в Москву ('за нами служба не пропадет'), Троцкому в Брест, Зиновьеву в Кронштадт, Луначарскому - в Петербург, а Коллонтай с Дыбенко куда-то poste-restante.
Ординарец вернулся к парламентерам и ска-зал: 'еще один выстрел и мы войдем в Киев. Горе побежденным. Готовьтесь!' Действительно полетела последняя девятидюймовка. Без прицела, куда хочет. Полетела она резво и весело. По дороге убила двух детей, оторвала руку хромому старику и контузила трех рабочих. Потом за-летела в шестиэтажный дом, где убила буржуя, и немного успокоившись села уже окончательно в другом шестиэтажном доме. Шипя она здесь разорвалась. Квартиранты обезумели, выскочили на улицу и тут, придя в себя, проклинали большевиков. Квартирант доктор успел захватить с собой трубку, которой выслушивал больных, а все его сбережения про черный день, которые он копил годами, сгорели. Поляк помещик чудом захватил недопитую бутылку редкой стар-ки, а прочие ничего. Одна только энергичная дама не растерялась и перетащила 5 сундуков и 2 сак-вояжа. Накануне у нее было предчувствие {48} и она все уложила.
Все ее потом поздравляли, удивля-лись ее присутствию духа. Дама скромничала, го-ворила, что большинство вещей осталось 'там' и она несчастная женщина.
Вступление большевиков.
'Но только свет луны двурогой
Исчез пред утренней зарей,
Весь Киев новою тревогой
Смутился. Клики, шум ивой
Возникли всюду...'
(Руслан и Людмила).
Большевики вошли в Киев без музыки, но со свистом и руготней. Главнокомандующий Муравь-ев был в центре, командующий Ремнев с правого фланга и комендант Колупаев с левого фланга. Гражданская высшая власть, мальчик Крейцберг и мадам Бош, позади. Мужчины говорили, что 'шельма' Бош 'вовсе не дурна', а дамы воз-мущались и утверждали, что она 'урод'.
Первым делом большевики сняли с офицеров погоны и сапоги, потом отвели их в Мариинский парк и пулеметами расстреляли. Хоро-нить офицеров долго не разрешали.
Парк они назвали 'штабом Духонина', убитого их же коллегами. Не мало поплатились и штатские контрреволюционеры. Ремнев обратился с воззванием к населению. Он писал о какой-то 'весенней отрыжке'. В то время был мороз и население ничего не понимало.
{49}
'Из хат, из келий, из темниц
Они стеклися для стяжаний!
Здесь цель одна для всех сердец -
Живут без власти, без закона.
Меж ними зрится и беглец
С брегов воинственного Дона,
И в черных локонах еврей,
И дикие сыны степей,
Калмык, башкирец безобразный,
И рыжий финн, и с ленью праздной
Везде кочующий цыган.
Опасность, кровь, разврат, обман
Суть узы страшного семейства...'
(Пушкин. Братья-Разбойники)
Наши французы решили повесить у дверей на-шего дома французский флаг. Его надо было ско-ро смастерить. Ключница-сплетница говорила, что у неё нет материй, но француженка-гувернантка отдала три свои разноцветные юбки. Флаг спас нас. Большевики не знали, какая теперь ино-странная ориентация у Совнаркома, и наш дом не разграбили, и нас не расстреляли.
Пугливо озираясь, мы вышли из подвала и все поселились у меня. Моя квартира имела большое удобство: немного окон, но зато темные коридоры. Для пущей безопасности мы забаррикади-ровались, т. е., мы заперли парадную и черную двери. И кроме того навесили цепочки. 'Противного Блэка' спустили в подвал. Опять chassez-croisez.
Большевики в Киеве.
Обалделые люди стали приходить в себя. У меня появились первые проблески сознанья и я {50} сейчас-же порвал свой старый паспорт потомственного почетного гражданина. Кусочки выбросил, куда? - неудобно сказать. Нашел свою зубную щеточку, порошок и во рту стало чище. Обыскал буфет и нашел съедобное. Братья совещались, не позондировать ли почву у одного родственника, как будет держать себя другой родственник, идейный большевик, получивший высокое назначенье. Впоследствии оказалось, что этот оригинал спас жизнь многим арестованным офицерам и буржуям.
Секретарь нашего домового комитета предложил устроить заседание. Предвиделась выгодная покуп-ка предметов первой необходимости. Я наотрез отказался участвовать в заседании и вместо ме-ня вошел членом правления наш кандидат, студент юридического факультета. Он давно об этом мечтал. Померший при пожаре лавочник тоже участвовал. Домовой комитет закупил перец и персидский порошок.
Кучер ходил в конюшню. 'Красавчик' и 'Разбойник' косились на него, но овес съедали. Перемирие между лошадьми и кучером длилось недолго, ибо пришел красноармеец и забрал лошадей. Говорили, что мадам Бош любит ка-таться и это для нее, министра внутренних дел. Красноармеец выдал расписку. Почерк был неразборчив, артельщик надел очки, прочел и сконфузился. Содержание комиссариатской расписки было приблизительно таково: 'вот тебе кукиш, свиное рыло!' Внизу вместо подписи был крестик. Потом нам объяснили, что это {51} действительно подпись комиссара, ибо он не-грамотный и ставит крестики.
Помощница кухарки шла доить корову, но воз-вращалась однако с пустой лоханкой. Дура-ко-рова еще не оправилась от пережитых волнений и скудной еды.
Истопник оказался монархистом чистейшей воды и всячески ругал большевиков. Сплетница-ключница утверждала: 'не верьте ему, он провокатор'. Плохо было артельщику. Он остался не у дел и собирался в Баку или Манчжурию. Советский министр финансов Крейцберг запечатал банки. У нас были еще деньги дома, но мы их не могли найти...
До прихода большеви-ков мы все попрятали в библиотеку. Книг было много и от волнения не помнили, какие мы именно книги обогатили. Перелистали все энциклопеди-ческие словари, всех классиков, пощупали даже декадентов, но деньги исчезли. А они нужны были во что бы то ни стало. Кухарка ходила на базар и говорила, что с приходом большеви-ков нужен большой мешок керенок, чтобы купить маленькую корзинку провизии.
Муравьев пригласил к себе богатых буржуев и произнес сильную речь:
'Будьте счастливы', сказал он, 'что я вас пощадил и не угостил удушливым газом. Вы неблагодарные твари и не стоите того, чтобы с вами так деликатно обращались. Завтра же при-несите мне 10 миллионов рублей. Эту контрибу-цию нужно дать славной красной армии в награду за победу. Надо купить ей водку и табак, а это трудно достать, ибо мои молодцы успели уже за-брать {52} и то, и другое'.
Буржуи кряхтели, кланя-лись в пояс, и один потом хвастал, что ор-динарец Муравьева протянул ему на прощанье руку. Деньги внесли.
Наш конторский мальчик тоже записался в ряды советской армии. Явился к нам с револьвером в руке и ружьем за спиной. Требовал 10.000 за эксплуатацию пролетариата вообще и его в частности. Сошлись на 100 рублях и обе стороны остались довольны.
Вообще стали появляться разные лица: приятные и неприятные. Неприятные искали оружие, грозили арестом, шантажировали, плевали на пол и сморкались в руку. Приятные были родня и друзья, пострадавшие, но уцелевшие. Первым пришел шурин, в меховой шапке, осеннем пальто и огромных галошах. Поцеловал маме руку и по-чему-то заплакал.
Мама сказал: 'Эх, дурень, перестань! Благодари Бога, что живы!' 'Дурень' согласился с таким мировоззрением и успо-коился. Я знал, что у него было много несчастий: огонь, 16 снарядов, разбитые зеркала и люстры, опрокинутая, поломанная мебель, а жену его обыскали спереди и сзади. Впрочем, ничего у нее не нашли. Она еще ребенком удачно прятала конфеты и пряники. Большевики рассердились и решили за такую неудачу отве-сти молоденького сына в штаб Духонина. По-вод был достаточный, ибо юноша носил бот-форты и выглядел контр-революционером. Тогда шурин отдал большевикам все что у него при себе было, откупился и красноармей-цы {53} ушли, забрав еще ботфорты, но оставив сы-на. Словом, человек был в переделке. Кроме того шурин страдал идейно. Он считал себя и другие считали его демократом, передовым интеллигентом. Он никогда никого не обижал, если же иногда 'тыкал' прислугу, то больше из расположения. Он полагал, что он недосягаем, и вдруг на голову 'кадетского' Макара по-сыпалось столько шишек. Мне стало его жалко. Я подошел к нему и вкрадчивым, задушевным, очень приятным голосом заговорил:
- 'Знаешь, друг мой, когда все образуется, я тоже сделаюсь демократом. Оно, положим, и не совсем помогает, но все таки я буду 'тише воды, ниже травы'.
Вместо благодарности шурин осерчал. Глухим голосом он ответил:
- 'Оставь, пожалуйста, знаю я вас, насквозь всех вижу. Ничему не научились и не научитесь. Вот пусть уйдут большевики и вы все остане-тесь такими же, как были'.
Я не обиделся. Скверным я ведь и раньше то-же не был; - чего же мне было обижаться? А если шурин-демократ не хочет обогатить свою партию новым членом, тем хуже для него. Очень скоро шурин оказался великим пророком. Очевидно дух Провиденья поселился в его мудрой голове и он стал ясновидящий. Не успели большевики уйти из Киева, как я не хотел уже быть 'тише воды, ниже травы'. Но я за-бегаю вперед, хотя и не очень, ибо большеви-ки через месяц действительно бежали. Они оставались в Киеве не долго, но мы уже знали {54} все тайны и закулисную жизнь. Знали, что ко-мандиры пьют запоем, что некоторые комисса-ры взяточники и т. п. Оказалось также, что пра-вы киевские дамы, а не мужчины: Мадам Бош, была урод лицом и душой.
А Ленину захотелось уже расколошматить приволжских буржуев. Прапорщик Дзевалтовский отвез оставшаиеся девятидюймовки и удушливые газы в Ярославль. Китайцев и латышей тоже погнали туда. Нам же для охраны и порядка оста-вили гвардейских каторжан. У наших милых охранителей появились золотые цепочки, часы, булавки, кольца, а у некоторых даже браслеты. Последнее они позаимствовали от франтов-буржуев.
Они продавали, и даже не дорого, бриллианты и другие ценные камни в оправе и без оправы. Ювелиры узнавали свое добро, бледнели, но молчали.
Кафешантаны никогда так поздно не закрыва-лись, как при большевиках. Оказалось, что военные и штатские большевики любят шампанское, декольте, короткие платья, цыганские романсы, а некоторые хорошо дают 'человекам' на чай. По части битья зеркал они могли утереть нос московским купеческим сынкам. Шансонетки не сразу привыкли к столь интимному обраще-нию, вне chambre separee, но потом вошли во вкус. Очень редко какой ни будь храбрый бур-жуй (жив курилка!) заходил в знакомые места, говорил 'какая гадость', но лицемерил, ибо, уходя из шантана не солоно хлебавши, - у него текли слюнки изо рта.
{55}
Нас выручают немцы.
Стало заметно, что большевики оставят Киев. Говорили, что идут немцы, и храбрые красноар-мейцы решили удирать. Мы радовались и в то же время боялись, ибо большевики обещали устроить накануне 'Варфоломеевскую ночь'. Если же у кого из буржуев останется случайно голова на плечах, то, пока придут немцы, будет крышка со стороны местных хулиганов.
Итак, снова надо было подумать, что делать? На сей раз мы ушли из дому. Я с женой и дочерью переехали к знакомому в скромную квартиру на скромную улицу. Шурин-демократ перекочевал к левому социалисту. Где мы обретались - знала только француженка-гувернантка. Она ведь не богатая, - после флага осталась почти без юбок, - и могла не рискуя остаться в нашем особняке. Обещала даже навещать нас, но идти не прямой дорогой, а заметая следы. Жена хотела посвятить в тайну и старого лакея. Пусть на всякий случай знает адрес конспиративной квартиры, но он и слышать не хотел.
- 'Спасибо, вам, барыня, за доверие, только лучше и не рассказывайте. Пристануть большевики: говори, старый хрыч, где твой хозяин кровопийца? Я не выдержу и выдам вас. Нет, ба-рыня, лучше подальше от греха!'
Таким образом, старик узнал, где мы жили, потом уже от моей дочери, по возвращении до-мой.
Вспоминаю, что у меня прибавилась новая забота. Наши друзья французы уехали на фронт via Владивосток. Прощание было трогательное, {56} говорили друг другу: а Paris. Было тяжело и гру-стно. Уезжая, авиаторы сняли с груди женин жемчуг и я его примостил на своей. Итак, при-бавилась забота - не потерять колье. В новой скромной квартире был адский холод, но за то безопасно. Наш милый хозяин успокаивал нас, что все в доме вооружены с ног до головы. Имелись маузеры, берданки, ноганы, браунинги, шашки; кинжалы... целый оружейный склад. Я успокоился и жена добилась своего: - я раскладывал пасьянс. Был все таки, рассеян и доч-ка мне помогала; часто ловила в ошибках, го-воря:
- 'Папочка! так нельзя!'
Квартиранты дежурили круглые сутки. Имелся рожок. Если бы случилось нападение, то все обязаны были по сигналу явиться на фронт, т.е., к парадному ходу. Исключение делалось для женщин и детей. Меня причислили к этой катего-рий. Это было очень деликатно.
Однажды ночью раздался сигнал. Все выско-чили на лестницу. Я тоже, но жена напомнила мне, что по сигналу обязаны явиться только муж-чины. К счастью, тревога была ложная и я мог продолжать свой пасьянс.
Телефон действовал. Мы усиленно им поль-зовались и вызывали родных и знакомых из новых 'скромных' квартир. Спрашивали друг друга 'ну, что?' Ответы были разные, но все начинались: 'Слава Богу', 'дал бы Бог', 'помилуй Бог' и все в этом роде. Все ждали немцев с нетерпением. Жена и дочь все время {57} войны были антантистки, но теперь сделали исклю-чение, маленькое исключение.
Знакомый адвокат, англофил, телефонировал нам, что немцы, слава Богу, уже близко. Он знал даже, что впереди двигаются саксонцы, за ними баварцы, а в хвосте вюртембергцы. Не хва-тало только пруссаков. Командовал всеми баварский принц, 'строгий, как чорт, и любит порядок!' Я нежно благодарил адвоката-англо-фила и говорил: 'дал бы Бог поскорей'. Раз адвокат позвонил, что строгий принц уже на Шулявке, значит, через час будет в Киеве. Я от умиленья прослезился. Жена вдруг оби-делась и спросила, помню ли я прощание с фран-цузскими авиаторами a Paris, a Paris. Я тоже оби-делся и сказал, что теперь идет речь 'быть или быть', а не речь о симпатиях и что вообще ее вопрос довольно неуместный. Оба надулись, но настроение было хорошее и скоро помирились.
Вместо принца пришел первым строгий ата-мань Петлюра. За ним премьер и украинский кабинет. Остроумное словечко 'вся Украина по-местилась в один автомобиль'... и т. д. забыли. Вернее, теперь было наоборот. Мы перешли Рубикон. На второй день явились немцы. С му-зыкой. Железные каски блестели, сапоги были вычищены. Пуговицы на мундирах тоже. Они устраивались в Киеве основательно. Неблагодар-ные буржуи, а мы особенно, были tres reserves. Помнили еще мазурские озера и всячески уклоня-лись от знакомства с военными, а с штатски-ми с грехом пополам.
{58}
Германский режим.
Не успели мы переселиться из скромной квар-тиры в свой дом, как к нам явился моло-денький лейтенант с железным крестиком на груди и большим моноклем в главу. Стеклыш-ко так уверенно сидело, что ясно было: лейте-нант родился уже с моноклем. 'Гутен таг!' сказал сын Марса и представился. Он был 'фон'. Без приглашения фон осмотрел вни-мательно дом, похвалил архитектора, сделал нам комплимент за чистоту и уходя обещал вернуться через час. Лейтенант соврал. Он явился не через час, а через полчаса, и не один, а со своим начальником. Позже мы уз-нали, что это была крупная шишка: 'фон унд цу'...
Крупная шишка, тоже с моноклем, отрывисто сказал 'гутен таг'. Имел очевидно большое доверие к лейтенанту, своему адютанту, ибо после беглого осмотра двух-трех комнат, подтвердил, что дом хороший, нравится ему и мы можем завтра уже выехать.
Это называлось реквивиция. Мы смутились. Ра-стерянно указали на преклонный возраст роди-телей... Крупная шишка как будто призадумался, но мой храбрый брат не дал ему подумать и этим испортил все дело. Брат долго служил на фронте, имел георгиевский крестик, нюхал немецкий удушливый газ и теперь кипятился.
Мы дергали нашего вояку за рукав, он этого, к сожалению, не замечал и сказал дерзость моноклям. Наша судьба была решена. Нас высе-лили. Мы негодовали и проклинали тевтонов.
{59} Реквизиции квартир и отдельных комнат стали злобой дня. Шло переселение народов. Когда на парадной звонили, - жильцы вздрагивали. Это приходили лейтенанты и находили, что в Киеве недурные архитекторы.
Мы жили в немецкой Украине. Немцы заби-рали хлеб, сало, сахар и прочие мелочи. Рас-плачивались и быстро отправляли все в Герма-нию. Солдаты приехали худые, но скоро растолстели. Не забывали также своих жен, деток, близких и дальних родственников и посылали домой муку, масло, яйца, чай, кофе и прочее.
Украинская рада прилежно заседала, число фрак-ций увеличилось, партий спорили и очень скоро 'достукались'.
Гетманщина.
На съезде 'хлиборобов' кто-то крикнул 'хотим Гетмана!' и все хлеборобы потребовали Гетмана. По щучьему велению и немецкому хотению, явился Павло Скоропадский и назвал себя Гетманом всей Украины, а социалистическая Рада приказала долго жить.
Буржуй обрадовались. Рада хотела забрать зем-лю без выкупа, а гетман сам был крупный помещик и вообще не ученик Карла Маркса.
По совету немца, Скоропадский хотел создать национальную армию. Это ему однако не удалось и пока что он завел придворный военный оркестр. Когда у гетмана в саду играли (его царствование совпало с летним временем), то публика знала, что у Его Светлости парадный обед.
В Киеве появились знакомые лица: царские {60} ге-нералы, важный губернатор и толстый полицеймейстер. Скоро в Советской России узнали, что на Украине хорошо и к нам стали приезжать знатные беженцы. Москвичи рассказывали, как сумасшедший Дзержинский и садист Петерс вы-зывали их в чрезвычайку, но им удалось бе-жать. Петербуржцы передавали, что садист Урицкий подписал ордер арестовать их, но Бог не без милости и какой Киев чудесный город.
От поры до времени в Киеве нарушалось спокойствие неприятными инцидентами вроде взрыва на Зверинце, но немцы в данном случае быстро оцепили местокатастрофы, а гетман учредил комитет в пользу пострадавших.
Нас стали бояться и уважать. Советская Россия предложила Украине мир и прислала делега-тов. В Киеве имеется педагогический музей. Над ним красуется надпись: 'на благо русского на-рода'. В этом здании состоялась мирная кон-ференция и мирный дележ Империй. 'Наш' Шелухин говорил по украински, а 'их' Раковский по русски. Переводчики дословно переводили, но делегаты их не слушали, ибо раньше уже по-нимали друг друга в оригинале.
Шелухин доказывал исторически, географически и этногра-фически, что 'Курщина з пикон вика' его, а Раковский парировал, что никакой Курщины ни-когда и не было. Была, есть и будет Курская гу-берния, и он, Раковский, по происхождению болгарин, румын или цыган, своих коренных русских Украине не уступит. Этот государ-ственный вопрос нас особенно интересовал и мы его часто вентилировали. Дело в том, что у {61} нас было под Курском имение и Ленин его национализировал.
Мы волновались, кто кого по-ложит на лопатки: Шелухин Раковского или к несчастью наоборот. Раковский был наш враг вообще, а по этой статье в квадрате. Мы считали, что должна быть 'Курщина', доколе в Москве будет Совнарком. Немцы в этот вопрос не вмешивались. Им это было безраз-лично. Они все еще вывозили хлеб и в свою очередь привозили галстуки, пуговицы, граммофоны и ремингтоны made in Germany. Их товары имели ярлык: 'вот тебе Боже, что мне не гоже!'. Обмен был своеобразный, благодаря чему жизнь у нас невероятно вздорожала. Каждому обыва-телю пришлось носить при себе объемистый бумажник и большой кошелек.
Деньги были различные: царские, думские, ке-ренки, карбованцы, шаги, германские марки, острубль и австрийские кроны. Торговки и извозчики различали валюту не хуже банкиров и даже узнавали, какие бумажки фальшивые. Большей частью это было одесского производства.
Бегство гетмана.
Казалось, что гетманщина будет длиться веками и только через 303 года к Скоропадскому XIII снова приедут в вагон монархисты Гучков и Шульгин и скажут:
'Ваша Светлость! отрекитесь от престола. Народ восстал и отдает себя в руки Керенского ХIII. Это еще молодой и неопытный юрист, но великий оратор и имеет благие намерения!'
Так казалось, а вышло иначе.
{62} Хлеборобы разочаровались в гетмане. Кресть-яне считали помещичью землю уже своей, а паны ее забрали. Тогда крестьяне еще раз обмерили свой 'шматок' земли и окончательно убедились, что в каждой семье больше ртов, чем десятин. Это их не устраивало. Самостийники зая-вили, что когда военный оркестр играет, то у гетмана за обедом кацапы о чем то шушукаются. Федералисты заявили, что они готовы были жить с москалями по соседски, но гетман переборщил.
Рабочий класс тоже роптал. Он прев-ратился в героя, 'Анатэмы': 'вчера просил у Бога селедку, а сегодня ему мало короны'. Насе-ление оказалось неблагодарным, ибо край обязан гетману спокойствием в течении нескольких месяцев. Жаль, что Скоропадский не помнил:
'...Чем ближе
Цель гетмана, тем тверже он
Быть должен властью облечен,
Тем перед ним склонится ниже
Должна вражда...'
Не было сильной власти. Этим воспользовался честолюбивый атаман Петлюра, съездил в Белую-Церковь и спросил сичевиков :
- 'А что, хлопцы, есть еще порох в порохов-ницах?'
- 'Есть, батько!'
- 'Ну так гайда в Киев!'
Снова Киев и край переживали кошмарные дни. 'Не приведи Бог', писал в свое время Пушкин: 'видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают {63} нашего народа, или уж люди жестокосердные, коим и своя шейка копейка, а чужая головушка полушка'.
У немцев уже были домашние неприятности: они потеряли войну и Вильгельма.
Лейтенанты побросали свои монокли, ходили как опущенные в воду; они говорили: 'Наша хата с краю. Держитесь сами с паной Петлюрой. Нашим солдатам надоело уже стрелять. Они хотят nach Hause! Guten Tag!' ( нем. -Домой! Добрый день! (в смысле - будьте здоровы!; ldn-knigi))
Гетман бежал и гетманщина прекратилась.
Мое бегство.
Я тоже решил, что 'треба утикаты' . Хорошо было бы, как в доброе старое время, съездить в Ниццу отдохнуть, но это был сон в зим-нюю ночь. 'Недорезанному буржую' надо было выбраться куда ни будь и как ни будь. По злой иронии судьба забросила моих антантисток, жену и дочь, в Берлин. Я решил тоже туда пробраться.
Тронулся в путь!
Когда то спальный вагон шел из Киева в Берлин 32 часа. Тогда были реакционные мо-нархии и бюрократические формальности на границах, теперь же и тут, и там демократические республики, и я полагал, что через сутки буду в Берлине.
Через сутки я сидел уже в Боярке, на вто-рой станций от Киева. Впереди стояли петлю-ровцы, сзади добровольцы бежавшего гетмана. И те, и другие стреляли в середину и попадали в мой поезд. Действительность превзошла фанта-зии Жюль-Верна, Майн-Рида и Фламмариона.
{64} Зато я стал знаменитостью. Напрасно даже завидую теперь славе американского Марк-Твэна. Мои знакомые до сих пор еще не верят, что я жив. Одни говорять: 'бросьте! мы доподлинно знаем, что беднягу выволокли в Жмеринке из вагона и повесили'. Другие, знающие ближе мою психику, утверждают, что я скончался в Боярке от разрыва сердца, до того еще, как меня 'трах-тарраррах'. Не знают только, в каче-стве кого я погиб: как буржуй или жид. Полагают, что за то и другое.
Эмигранты на чужбине.
В Берлин я приехал дней через восемь. Ре-волюция была уже там на исходе и красный цвет не в моде. Город мало изменился. Тол-стый шутцман по прежнему стоял на углу Фридрихштрассе и дирижировал палочкой, какому автомобилю раньше проехать. Его слушались.
Наивные немцы воображали, что их революция была вроде нашей. Мы с женой и дочерью про себя смеялись, считали, что такая революция курам на смех, оперетка, пародия или скандальчик с нарушением общественной тишины.
Немцы съели уже привезенный из Украины хлеб и голодали. Послали делегатов в Версаль подписать мир. Мир затягивался. Вильсон написал 14 пунктов и к каждому пункту много примечаний.
Мои антантистки и я, нейтральная особа, рва-лись в Швейцарию. Маленькая республика боя-лась больших большевиков и нас не пускали.
{65} Наконец в Берне очевидно убедились, что но-вые эмигранты настоящие буржуи и нам дали про-пуск.
Теперь мы в Швейцарии.
Мы любуемся величественными горами, покры-тыми снегом; смотрим на лазурные озера, про-зрачные ручейки и бурные водопады. Солнце светит, греет и ласкает. Мы вдыхаем свижий воздух и приходим в себя.
Долго челнок плыл по взбаламученному мо-рю. Наконец то причалил к берегу.
Часто жена и дочь вспоминают Киев.
Я меняю рубли и получаю пятаки. Думаю о бедной России, мечтаю о русском Вильгельме Телле и пишу, как человек вышедший в тираж, свои мемуары.
Когда человеку хорошо, - он мемуаров не пишет. Свои краткие воспоми-нания посвящаю жене и дочери. Мы вместе стра-дали и часто были на краю гибели.
'Что день грядущий мне готовит?
Его мой взор напрасно ловит'...
Люцерн
Октябрь 1919 г.